Все, что беспокоит и как бы подмывает сердце в его основании, томит его, – от диавола происходит, ибо он есть вечное беспокойство и томление. Преподобный Иоанн Кронштадский Пророк (Царь) Соломон Я, Екклесиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме, и предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом: это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем. Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот, всё — суета и томление духа! [Екк 1:12-18]. И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их: и вот, всё — суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем! [Екк 2:11]. И сказал я в сердце моем: «и меня постигнет та же участь, как и глупого: к чему же я сделался очень мудрым?» И сказал я в сердце моем, что и это — суета, потому что мудрого не будут помнить вечно, как и глупого; в грядущие дни все будет забыто, и увы! мудрый умирает наравне с глупым. И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо всё — суета и томление духа! [Екк 2:15-17]. Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить и услаждать душу свою от труда своего. Я увидел, что и это — от руки Божией, потому что кто может есть и кто может наслаждаться без Него? Ибо человеку, который добр пред лицем Его, Он дает мудрость и знание и радость, а грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму пред лицем Божиим. И это — суета и томление духа! [Екк 2:24-26]. Видел я всех живущих, которые ходят под солнцем, с этим другим юношею, который займет место того. Не было числа всему народу, который был перед ним, хотя позднейшие не порадуются им. И это — суета и томление духа! [Екк 4:15-16]. Все труды человека — для рта его, а душа его не насыщается. Какое же преимущество мудрого перед глупым, какое — бедняка, умеющего ходить перед живущими? Лучше видеть глазами, нежели бродить душею. И это — также суета и томление духа! [Екк 6:7-9]. Преподобный Исаак Сирин Взглянем, возлюбленные, в душу свою во время молитвы: есть ли в нас созерцание при чтении стихов, содержащих поучение и молитву? Оно бывает следствием истинного безмолвия. И в то время как бываем в омрачении, не будем смущаться, особливо, если не в нас тому причина. Приписывай же это помрачение Промыслу Божию, действующему по причинам, известным единому Богу. Ибо в иное время душа наша томится и бывает, как бы среди волн, - и читает ли человек Писание, или совершает службу, и во всяком деле, за какое ни примется, приемлет омрачение за омрачением. Таковый удаляется от мирного устроения, и часто не попускается ему даже приблизиться к оному, и вовсе не верит он, что получит изменение к лучшему, и что будет опять в мире. Этот час исполнен отчаяния и страха, надежда на Бога и утешение веры в Него совершенно отходят от души, и вся она всецело исполняется сомнения и страха. Претерпевшие искушение в этой волне часа сего по опыту знают, какое изменение последует при окончании его. Но Бог не оставляет души в таком состоянии на целый день, потому что она утратила бы надежду христианскую, напротив того, скоро творит ей и «избытие» (1 Кор. 10:13). Если же тревожное состояние этого омрачения продолжается более, то вскоре ожидай изменения жизни от среды ее (т.е. смерти). А я предложу тебе, человек, и дам совет: если не имеешь силы совладеть с собою и пасть на лице свое в молитве, то облеки голову свою мантиею твоею, и спи, пока не пройдет для тебя этот час омрачения, но не выходи из своей храмины. Сему искушению подвергаются наипаче желающие проводить житие умное и в шествии своем взыскующие утешения веры. Поэтому всего более мучит и утомляет их этот час сомнением ума, следует же за сим с силою хула, а иногда приходит на человека сомнение в воскресении, и иное нечто, о чем не должно нам и говорить. Все это многократно дознавали мы опытом, и к утешению многих описали борьбу сию. Пребывающие в делах телесных совершенно свободны от сих искушений. На них приходит иное уныние, известно всякому, и оно по своему действию отлично от сих и подобных сим искушений. Здравие и уврачевание страждущего им источаются безмолвием. Вот утешение для него! В общении же с другими никогда не приемлет он света утешения, и уныние сие беседами человеческими не врачуется, но усыпляется на время, а после сего восстает на человека с большею силою. И ему необходимо нужен человек просвещенный, имеющий опытность в этом, который бы просвещал его и укреплял при всяком случае во время нужды, но не всегда. Блажен, кто претерпит это, не выходя за дверь (келии). Ибо после этого, как говорят Отцы, достигнет он великого покоя и силы. Впрочем, не в один час и не скоро оканчивается борьба сия, и благодать не вдруг приходит в полноте и вселяется в душе, но постепенно, и от нее рождается первое (т.е. утешение): временем искушение и временем утешение, и в таком состоянии человек пребывает до исхода своего. А чтоб совершенно стать чуждым сего и совершенно утешиться, не будем на это и надеяться здесь. Ибо Бог благоизволил, чтобы так устроялась жизнь наша здесь, и чтобы шествующие путем сим пребывали в этом (т.е. то в искушении, то в утешении). Преподобный Никодим Святогорец Блюди себя от помыслов, которые представляются святыми и разжигают неразумную по ним ревность, о которых иносказательно говорит Господь: внемлите же от лживых пророк, иже приходят к вам в одеждах овчих, внутрь же суть волцы хищницы. От плод их познаете их (Мф. 7:15). Плод же есть томление и крушение духа. Ведай, что все, что удаляет тебя от смирения и от внутреннего мира и спокойствия, под каким бы то красным видом ни представлялось, все это — лживые пророки, которые, прикрываясь овчею одеждою, т. е. лицемерною ревностью облагодетельствовать ближнего безразборно, суть воистину волки хищные, похищающие у тебя смирение, мир и спокойствие, столь необходимые для всякого, кто желает прочно успевать в духовной жизни. И чем более какое дело по видимости представляется окрашенным святостью, тем строжайшему должно оно быть подвергнуто тобой исследованию, без задора, однако же, и тревожности. Если случится иной раз впасть при этом в ошибку, не поддавайся малодушию, но смирись пред Богом и, сознав немощь свою, возьми из сего урок на будущее время. Ибо, может быть, Бог попустил это, чтобы смирить в тебе какую-либо черту гордыни, сокрытой в тебе и тебе самому неведомой. Святитель Дмитрий Ростовский О, как мятежна и многопопечительна жизнь суетного мира сего! Нет никакого в нем утешения и покоя: одна только тягота и великое томление души, ибо каждый день приносит с собою молву и смятение и неожиданные беды. От самого рождения человека и до смерти не бывает мира, но всегдашнее смятение и смущение. Ибо родится человек в мир с болезнью и воплем, растет и живет в скорбях и печалях, а скончание его многоплачевно и рыдательно. По смерти же тело идет на съедение червям, а душа на суд и неизвестное последствие суда. Посему не прилагай сердца своего к настоящему веку, не любодействуй в плотских сластях, чтобы не оказаться нагим и пустым от всякого добра. Ищи всегда Господа, чтобы сподобиться вечных благ: богати в плотских сластях обнищаша и взалкаша: взыскающии же Господа не лишатся всякаго блага. Всячески берегись объедения и пьянства, ибо в них начало и корень всякому греху, в них побуждение к блуду и нечистоте, в них предуготовление к вечному томлению. Невоздержание рождает все злое; им прадед наш Адам плачевно лишился рая и подпал смерти. От объедения и пьянства происходят: тягота души, помрачение разума, восстание плотской похоти, всегдашняя борьба, удобный доступ бесу и отчуждение от Божественной любви. От объедения и пьянства происходит не только душе вред, но и телу болезнь; от воздержания же и трезвости не только душе польза, но и телу здравие и легкость жизни; объедение и пьянство лишают не только вечной жизни, но и временной – погубляют вместе и душу, и тело; вообще, делают человека непотребным Богу и людям. Временная сласть готовит человеку вечную горесть, если кто к ней безумно прилепляется. Жизнь воздержная и трезвая - рай на земле, а жизнь растленная и греховная – ад на земле и превеликое томление. Презирай насыщение чрева – да не будешь взят и связан узами страстей. Претерпевай алчбу и жажду плотской сласти – освободишься от тяжести душевной и насытишься Божественной пищи, ибо непретерпевающий малой алчбы имеет пострадать от больших страстных бедствований. Если ты сравнишь сласть телесную со тщетою, угодие плоти – с тяжестию, утешение временное – с душевной горестию, то знай, что больше не пожелаешь этим прельщаться, ибо тленная сласть не есть сласть, но горечь души, угодие плоти не угодие, а раздражение и тягота, утешение временное не есть утешение, но скорбь и печаль – не царство это небесное, но лишение его: несть бо царствие небесное – пища и питие, но правда и мир и радость о Дусе святе, говорит апостол (Рим. 14,17). Отвергай временные, телесные сласти – да не лишишься вечного наслаждения и да не потеряешь жизнь вечную. Угождение плотской сласти есть не что иное, как тягота душевная и сильное томление совести; это не столько утешение, сколько скорби, не столько сладость, сколько потом тягость. Суетно то утешение, за которым тотчас же следует горесть и опечаление. Те, которые поработились объедению и пьянству, ничего хорошего и достойного памяти в мире не сделали, но, увлекшись настоящею жизнью, сделали себя недостойными жизни вечной и погубили память о себе в среде добрых. Итак, если ешь, ешь без пристрастия; если пьешь, пей без вожделения сердца, ибо не здесь твое совершенство: все сие пройдет и скоро изменится. Преподобный Иоанн Кронштадский Все, что беспокоит и как бы подмывает сердце в его основании, томит его, – от диавола происходит, ибо он есть вечное беспокойство и томление. Господь есть покой сердца. Приидите ко Мне вси труждающиеся и обремененнии, и Аз упокою вы (Мф.11:28). Мир оставляю вам, мир Мой даю вам (Ин.14:27).Сколько страстей, столько беспокойства и томления; сколько пристрастий, столько острых стрел, пронзающих сердце, и столько омрачения.Большую часть жизни человек находится в душевном омрачении. Святитель Игнатий (Брянчанинов) Человек, в каком бы ни был земном благополучии, на какой бы высоте ни стоял, в каком бы обилии ни плавал, встречает и переживает такие минуты, часы и дни, в которые нуждается в утешении, доставляемом слезами, — утешения в другом утешении не находит. Каждый из нас лишь вступает в страну нашего изгнания и томления, в страну страданий и плача, как и ознаменовывает это вступление, начало своего существования, плачевным воплем. Блажен муж, емуже есть заступление его у Тебе, ознаменовываемое слезами при молитве его! Таковы невидимые, духовные восхождения в сердце своем положи, преходя юдоль плачевную —земную жизнь, которую Ты назначил для покаяния: ибо благословение даст законополагаяй нам плач и слезы. Очищающие себя плачем и слезами пойдут от силы в силу, и явится Бог богов в Сионе —в духе человеческом, приуготовленном к приятию Бога истинным покаянием (Пс.83:6,7,8). Сеющий слезами, радостию пожнут. Те ходящии путем земной жизни, которые хождаху по пути узкому и прискорбному, и плакахуся, метающе семена своя, грядуще приидут радостию, вземлюще рукояти своя (Пс.125:5-6). «Иов говорит, что ад (шеол) открыт взорам Бога и что место пагубы не закрыто от Него (Иов.26:6). Иов изображает жилище мертвых землею, покрытой мраком и тьмой, землею, в которой царствует томление и горе вечные» (Иов.10:21,22). Преподобный Макарий Оптинский Мы, бедные, любим свои страсти, уважаем их; и какое ж воздаяние от них получаем? Мучение совести и томление духа... azbukaspaseniya.ru ТОМЛЕНИЕ ДУХА О книге о. П. Флоренского: «СТОЛП И УТВЕРЖДЕНИЕ ИСТИНЫ». О книге о. П. Флоренского трудно говорить, — это значит говорить об авторе и о его личном религиозном пути. Книга о. П. Флоренского нарочито и намеренно субъективна. Не случайно избрал он для нее полубиографическую форму дружеской переписки. Это не только литературный прием. Такова тональность его духовного типа, — о. Флоренскому так подходит богословствовать в письмах к другу… Слишком силен у него пафос интимности, пафос психологического эзотеризма [34], — слишком сильна потребность в личных отношениях и связях. Он много говорит о церковности и соборности, но именно соборности всего меньше в его книге. В его размышлениях всегда чувствуется одиночество, уединенность. Из этого томительного одиночества он ищет исхода в дружбе… И полнота соборности разрешается для него в множественность интимных дружественных пар, и двуединство личной дружбы психологически заменяет для него соборность. Он живет в каком–то укромном уголке и хочет так жить, в каком–то эстетическом затворе. Он уходит с трагических распутий жизни, укрывается в тесную, но уютную келию. И убирает ее душистыми и пряными цветами… Флоренский весь во времени, он живет в каком–то разорванном мире, в непреодолимом, «асиндетон» [35]. И время для него — тоска, но не подвиг, — время тянущееся и тянущее, вытягивающее и томящее душу. Флоренскому понятен динамизм, но непонятна история. Для него непонятно конкретное и творческое историческое время, в котором не только переживается, но и совершается нечто. И в этом разгадка его субъективизма. Он не чувствует ритма церковной истории. Флоренского упрекали в пристрастии к теологуменам [36], к частным богословским мнениям. И действительно, к теологуменам у него больше вкуса, чем к догматам. Точно догматы слишком громки для него, и он предпочитает неясный шепот личного мнения… И в книге своей о. Флоренский говорит прежде всего о переживаниях, не только о личном опыте, но именно о личном в опыте. Правда, он смиряется и отрекается от собственного мнения; он хотел бы ничего не говорить от себя, ничего своего, но только передавать и пересказывать общее, всецерковное. Однако в действительности он все время говорит от себя и о себе. Он субъективен и тогда, когда хочет быть объективным. Со всей силой это сказывается в его отношении к церковному преданию. Он сам сознается, что выбирает или подбирает свои ссылки и примеры. К церковному прошлому он подходит не как историк, но как археолог. И оно разбивается для него на множество памятников древности и старины, среди которых он бродит, как в музее. Свиток церковного предания как–то свертывается для него, он не различает эпох. Историческая перспектива для него не реальна. Все предание для него — единая скрижаль, и эта скрижаль — притча, символ недвижного… Исторические ссылки о. П. Флоренского всегда случайны и произвольны. С каким–то беспечным эстетизмом плетет он свой богословский венок. Для него не важны все вопросы исторической критики, он легко ссылается на заведомо неподлинные свидетельства, считает мнимого Дионисия святым Ареопагитом… И никогда не исследует, но только выбирает. И… умалчивает, — это в особенности для него характерно. И оттого такою особенной кажется его книга. Это книга личных избраний. И прежде всего виден в ней автор. Свою книгу о. Флоренский начинает письмом о сомнении. Путь к истине начинается отчаянием, начинается в пирроническом огне. Это мучительный и безысходный лабиринт, и вдруг где–то неожиданно вспыхивает молния откровения. Остается неясным, о каком пути говорит о. Флоренский. Говорит ли он о трагедии неверующей мысли? Или изображает диалектику христианского сознания?… Во всяком случае он ставит вопрос так, точно самое важное — убежать и спастись от сомнения. Точно неизбежно для человека идти к Богу через сомнения и разочарования и здесь на земле проходить через чистилище и адскую муку… Вся религиозная гносеология сводится для о. Флоренского к проблеме обращения. Положительной гносеологии у него нет, он ограничивается отрицательной, нейдет дальше пролегомен: как возможно познание?… И вот, в рассуждениях о. Флоренского вскрывается противоречие: его психология не соответствует его онтологии [37]. В самом деле, как совместить антиномизм [38] и онтологизм? Как сочетать пирронизм [39] с платонизмом [40], в особенности при том толковании, какое сам о. Флоренский дает теории идей в своем этюде: «Смысл идеализма» (1915). Остается непонятным и необъяснимым, почему так антиномичен, надрывен путь познания, если мир софиен в своих основах и София, по определению о. Флоренского, есть «ипостасная система миротворческих мыслей Божиих»… Как возможно, чтобы антиномизм выражал последнюю тайну мысли, если мир создан в Премудрости, в Софии, и есть премудрое откровение Божие… Учение о грехе не допускает этой апории [41]. Ибо для о. Флоренского двоится не только греховное сознание, — мысли вообще свойственно колебаться в антиномиях и противоречиях. Антиномично и христианское сознание, антиномична догматика, антиномична сама истина, — «истина есть антиномия»… И это для о. Флоренского означает не только несоизмеримость религиозного опыта и рациональных схем, но и невозможность для разума сделать выбор между: «да» и «нет». Получается впечатление, что только у мысли нет софийных корней, что и христианское сознание остается в плену и отравлено незнанием. Странным образом, в главе о Софии о. Флоренский совсем забывает об антиномиях… И при этом мир раскрывается для него, как система разума. Как будто бы в последнем свершении антиномии разрешаются или, по крайней мере, остановятся в вечном равновесии. Однако в сознании Церкви это равновесие еще не достигнуто. Так борьба с рационализмом приводит о. Флоренского к символизму в догматике. И здесь все качается. И отсюда нужно спасаться. Это относится не только к личному пути, но и к пути Церкви… От сомнения разум спасается в познании Троицы. И с особой силой о. Флоренский раскрывает спекулятивный смысл Троического догмата, как истины разума. Но странным образом он как–то минует Воплощение, и от глав троичности сразу переходит к учению о Духе Утешителе. Это отсутствие христологических глав особенно разительно и поразительно в книге о. Флоренского. Образ Христа, образ Богочеловека какой–то неясной тенью теряется на заднем фоне. И потому так мало подлинной радости в книге о. Павла. Точно ушел Господь из мира… и потому не столько радуется о. П. Флоренский о пришествии Господнем, сколько томится в ожидании Утешителя, в чаянии Духа. И снова, не радуется о пришествии Утешителя, но жаждает большего. Более того, он как–то не чувствует неотступного пребывания Духа в мире, церковное видение Духа кажется ему смутным и тусклым. Откровение Духа чувствует он в немногих избранниках, но не в «повседневной жизни Церкви». Точно еще не совершилось спасение: «чудное мгновенье сверкнуло ослепительно и… как бы нет его»… И мир остался темным, непреображенным, только сверху озаряют его какие–то еще не греющие, предрассветные лучи. Сердце томится о небывалом. И потому так грустно о. Флоренскому в истории, — некая истома грусти овладевает им, и душа вся вытянута к еще не наступившему мигу… В мире христианском о. Флоренскому как–то тесно и душно… Одностороннее видение Второй Ипостаси не освобождает мира, — напротив, заковывает его в закономерность. Ибо Логос есть именно «всеобщий Закон мира»… Откровение Логоса для о. Флоренского обосновывает научность, и потому в христианском сознании не открывается свобода и красота мира. Христианский мир есть мир суровый и жестокий, мир закона и непрерывности, — точно не пришла сень законная благодати пришедши… Как в Ветхом Завете только ждали еще слова, так и в Новом Завете мы только чаем Духа, — и стало быть, в Новом Дух является только так, как в Ветхом являлся Логос. И неясно, что значит для о. Флоренского Пятидесятница… Речь идет не только об исполнении, но именно о новом откровении, о третьем завете. И в конце времен он ждет не второго Пришествия Христова, но Откровения Духа. Остается бесспорным: о. Флоренский не чувствует абсолютности Новозаветного Богоявления, Воплощение Слова не насыщает его упования. Странным образом, он как–то не видит — Иисуса Сладчайшего, не видит и пришедшего Утешителя, и все ждет иного… И снова здесь вскрывается острое противоречие в его созерцаниях. Мир еще не преображен, но уже в вечных корнях своих он Божественен. И от тоски о. Флоренский переходит к славословию. Его томление разрешается в созерцании Софии: «есть объективность, это Богозданная тварь»… Упование о. Флоренского не в том что пришел Господь, и Бог стал человеком, но в том, что от самого творения и по природе «тварь уходит во внутритроичную жизнь». В первореальности своей мир, как некое «великое существо», уже есть некое «четвертое лицо», четвертая Ипостась. В учении о Софии о. Флоренский не стремится к примирению противоречий, — образ Софии двоится и является во многих аспектах. Но при этом, учение о Софии слабее всего связано с образом Христа. И если о. Флоренский называет Софию Телом Христовым, разумея при этом «тварное естество, воспринятое Божественным Словом», то, во–первых: София предсуществует в своей полноте и реальности всякому конкретному историческому времени, а во–вторых: высшее откровение Софии о. Флоренский видит не в Христе, а в Богоматери. Получается впечатление, что во Христе о. Флоренский видит только Божество Слова, а полнота обоженного человечества открывается ему в Приснодеве. И более того, в Богоматери видит о. Флоренский предварительное явление Духа на земле, тип пневматофании [42]. Это для него подлинное предварение будущего века, начало последнего завета. И в Приснодеве он видит и чтит прежде всего явление Софии, более, чем Матерь Божию. О Богоматеринстве и о рождестве несказанном он говорит только вскользь, в эпитетах и придаточных предложениях. Во всяком случае, Богоматерь как–то отделяется для него от Христа. И о соединении двух естеств в Богочеловеке он говорит глухо. Много говорит о. Флоренский о духовном типе церковной мистики, с формальной стороны, как о собирании духа, как о девственности души. Но по содержанию его мистика всего менее мистика Христа. Скорее, — мистика первозданной тварности, мистика софийной девственности. И даже Церковь для него скорее осуществление премирной Премудрости, нежели раскрытие Богочеловечества. Потому и уходит он из христианской истории в какие–то мечтательные планы… Можно сказать, в сознании о. Флоренского как–то причудливо переплетаются августинизм и пелагианство: психологический пафос дистанции: вера в природу твари… С этим связан еще один характерный мотив: в сущности человечество предмирно разбито и раздроблено на множество несоизмеримых родов и типов, — с особой резкостью эту мысль о. Флоренский развил в своем замечательном этюде: «О типах возрастания» (в Богословском Вестнике 1906 года, июль–август). И у каждого есть свой предмирно–определенный путь, — о. Флоренский выше ставит именно эту врожденную непорочность, нежели святость подвига. И высший из «родов», — духовный род Богоматери… Флоренский остро чувствует проблематику обращения и мало ощущает пафос возрождения. Он чает проявления софийных устоев, но не говорит о воскресении. В девственности, а не в воскресении для него открывается последняя судьба твари. Он как–то замкнут в кругу софийного имманетизма. В русской религиозно–философской литературе книга о. Флоренского занимает особое место. Это очень яркая, но совсем не сильная книга. Напротив, в ней есть что–то жалобное и тоскующее. В ней всего сильнее чувствуется усталость и разочарование. Это какая–то осенняя книга, и в ней красота увядания: «люблю я пышное природы увяданье»… И какою–то бескрылою мечтой вплетаются сюда весенние мотивы… Книга о. Павла, прежде всего, религиозно–психологический документ. И документ определенной русской эпохи. Этим объясняется ее психологический успех. В ней как–то слилась вся тоска XIX века. По своему духовному смыслу — это очень западническая книга. Книга западника, эстетически спасающегося на Востоке. Романтический трагизм западной культуры о. Флоренскому ближе и понятнее, нежели проблематика православного предания. Менее всего можно видеть у Флоренского православную реставрацию, «стилизованное Православие»… Совсем не из православных глубин исходит о. Флоренский. В православном мире он остается чужим, только быт православный он старается усвоить и то эстетически, т. е. как чужой. Скорее можно видеть в о. П. Флоренском запоздалого александрийца. Во всяком случае, человек до–никейской эпохи. В этом узость и несоборность его религиозного сознания. Флоренский не приемлет и не вмещает церковно–исторической полноты, он выбирает из нее архаические мотивы. И притом, не радость апостольского перво–христианства, но пепельную грусть умирающего эллинизма. На Флоренском повторяется судьба Оригена: для обоих Христианство есть религия Логоса, а не Христа. Этим определяется вся архитектоника религиозно–философской системы. В церковном синтезе снята исключительность александризма, и вместе с тем претворены его истинные прозрения. Флоренский хотел бы снова разложить этот синтез и вернуться к двусмысленности III века. И эта попытка реставрации обречена на неуспех. Путь о. Флоренского уводить в тупик. Это выдает его грусть. И мысль срывается в мечтательность и грезы. Его книга — книга о прошлом, о трагическом прошлом русского духа, возвращающегося в Церковь. Еще не раскрылся пред ним лик Богочеловека. И потому еще не открылся творческий путь. Следующая глава > religion.wikireading.ru Сообщение zhilet: Екклезиаст - Написана Соломоном в последние годы его блестящего замечательного царствования. Состоит из 12 глав, и в ней, с одной стороны, изображается суета и ничтожество всего земного, которое само по себе не может доставить умирения и успокоения человеческой душе, потому что непостоянно и изменяется, как это и доказывает Соломон на основании собственного разнообразного опыта (I-VI), а с другой стороны, указывается на отношение мудрого к миру. Возноситься выше земного к вечному и неизменяемому, среди земных превратностей искать себе счастья и успокоения в Боге - вот истинная задача земной жизни мудрого (VII-XII). Видел я все дела, какие делаются под солнцем, продолжает проповедник, и вот, все суета и томление духа (ст. 14). Я предпринял большие дела, говорит он далее, построил себе домы, насадил себе виноградники... приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня... собрал себе серебра и золота и драгоценностей от царей и областей, завел себе певцов и певиц... Чего бы глаза мои ни пожелали, я не отказывал им... И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их, и вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем!.. И предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом... И приобрел мудрости больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом, и сердце мое видело много мудрости и знания... но узнал, что и это - томление духа. Потому что во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь (I, 1-18)._______________________________________Все здесь понятно, нечего добавить, как тут можно как-то по-другому думать!Все суета сует и томление духа. Потому что во многой мудрости, много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь. Еще так, между прочим: А.С. Грибоедов "Горе от ума" - произведение непревзойденное, единственное в мировой литературе, не разгаданное до конца" (А. Блок). Комментарий автора блога: Определение слова "Эвель" - смотрим ТЭС (ч.3. глава 11 буквы 4-6) или Ари, книга Шаар акдамот (стр 31 друш 2): "Эвэль - это отраженный свет". А теперь объяснение: Все наши книги, написанные до Ашла (18 век), написаны только каббалистами, постигающими высший мир и описывают всё - только из высшего постижения автора. Вам все-таки как-то надо постараться усвоить, что есть люди, которые ощущают высший мир и говорят только из его ощущения, потому что видят, что наш мир полностью управляем свыше, из того мира, включая полностью управляемых свыше людей. И поэтому о нашем мире отдельно говорить нечего. Он - мир следствий. Смотрите, что говорит книга Зоар, глава Ваеце, часть Ситрей Тора (Тайны Торы), п.13: "Что открылось царю Шломо (олицетворяющего сфиру есод), что заставило его начать раскрытие своей мудрости, повествуя о "восходе солнца" (проявлении света)? - Сказал раби Элазар: Царь Шломо утвердил свою книгу (Коэлет - Экклезиаст) на 7 эвелим, на которых стоит мир. (т.е. на 7 видах отраженного света, которыми полностью можно наполниться малхут, называемую "Мир"). И это столбы, держащие мир (наполняющие все души светом Творца. Поэтому называются Эвелим. Ведь как тело не может существовать без Эвель, также и мир существует только благодаря этим Эвелим, о которых говорит царь Шломо. И их 7, как сказано "Эвель эвелим, сказал Коэлет (Коэлет или Экклезиаст так звали царя Шломо), эвель эвелим, аколь эвель - т.е. 7 авалим перечислены здесь. Потому что эвель - один, а эвелим - 2. Итого 7. Эвелим - ЗАТ бина, нешама, которые одеваются в 7 сфирот ЗА, руах, которые одеваются в 7 сфирот малхут, нефеш. Малхут называется мир. Поэтому сказано, что мир, не может существовать без эвелим". Т.е. воистину, все, что существует - Эвель! (отраженный свет) - ведь существует в мере и в виде только благодаря отраженному свету - свету, который мы сами должны создать, - и в нем, как в луче прожектора, обнаружим высший мир и Творца. Весь Экклезиаст получается не мрачным, а полным Высшего Света! Да и как иначе может выражаться каббалист, причем такой великий, как царь Шломо! Предыдущие сообщения на эту тему: Бааль Сулам. Введение в комментарий Сулам пп.1-23. (конспект) Введение в науку Каббала-22-25 Понимать Тору на ее уровне Тема : КАББАЛА Закладки Послать другу Распечатать www.laitman.ru «Томление духа» в истории человечества 1 Крик души или длительная неумолчная тоска. И вырастает это не только из негативных предпосылок: пустоты, зияющей пропасти души, зияющей пропасти, окружающей нас со всех сторон, и нечем ее заполнить! Не только из желания заполнить эту пустоту возрастает религиозное томление, нет — есть еще более глубокие, подсознательные или сверхсознательные корни: есть неясное, смутное ощущение или предощущение радостного Преизбытка, всеудовлетворяющей Полноты и радостного, творческого Мира. Он есть! — и душа как–то чует это, и потому и хочет прикоснуться к Нему. Говоря словами апостола Павла, мы жаждем «не совлечься, а облечься», т. е. не столько избавиться от Пустоты, сколько прикоснуться к тому, что есть Жизнь преизбыточествующая, и утолить жажду души нашей, припав к Источнику Жизни. Можно поэтому сказать вместе со многими мистиками, христианскими и вне–христианскими, что активность здесь двойная: наше искание, наше томление, и Его зов, пускай лишь смутно нами ощущаемый (но в глубинах нашего существа он есть стержень духовного бытия нашего) — Его зов, предваряющий наше томление. Наше томление рождается из Его зова. Так говорят праведники и религиозные искатели и мистики, искавшие Его и хоть издали ощутившие Его. 2 Различными образами пользовалось это томление человеческой души для выражения своего. Жажда и — вода, утоляющая жажду; о лани, стремящейся к потокам воды, говорит, например, псалмопевец, и еще: «Душа моя, как земля безводная по Тебе». Отчий Дом, приют Мира, Жизнь неумирающая, сияние Красоты непреходящей! Все это звучит нам навстречу из разных мест, из разных времен и народов, то полушопотом, как предмет отдаленной надежды и искания, то как радостная уверенность. Иногда это — только слабое звучание, только полувнятный намек, проникающий, например, и в художественное творчество, и во внутренний опыт художника, как некое смутное движение души, как некий порыв теоретически не осознанный, но тем более плодотворный творчески. Может быть, это — главная оплодотворяющая сила художественного творчества: томление по Красоте и по адэкватности ее выражения, бессознательный уход — и увлечение вместе с собой других — в глубины жизненной ткани, в манящие «задние фоны», глубины жизненного избытка. «Метафизическая струя», т. е. томление, часто присутствует в искусстве, в творчестве художника, как невидимый задний фон там, где это явственно не выражено и не осознано самим художником. Есть мука, есть боль творчества, есть стремление что–то ухватить, что–то выразить, что смутно волнует душу, осветить жизнь из каких–то новых глубин. «I pant, I sink, I tremble, I expire!» — так это заострено в лирике Шелли («Я охвачен томлением, я погружаюсь, я трепещу, я испускаю дыхание!»). Это редко бывает так резко выражено, но какое–то томление, какое–то стремление схватить, понять, погрузиться в глубины жизни, осветить ее изнутри внутренним светом, искони ей присущим, но затемненным для поверхностного взора, — это стремление часто характерно для неясных, волнующихся глубин художественного творчества. Поэтому самое «простое», наивное, казалось бы, искусство нередко символично, т. е. есть невольный, частичный намек на что–то Большее, отрезок из чего–то Большего. Чем это меньше высказано, тем иногда это глубже и больше захватывает. Это мы часто встречаем, например, в лирических картинках Тютчева. И в этом — в этой «настороженности» поэтического уха и глаза, в безмолвном касании этих глубин покоя и тишины — великая красота. Скрытое томление, можно сказать, — один из основных образующих элементов искусства. Более того; искусство раждается из какого–то неясного томления, и порождает томление. 3 Вернемся к образам «томления». Особенно ярок и характерен образ супружеской любви, или вернее ожидания любви или искания Возлюбленного, — искания и ненахождения и томления и горения душевного. «Да лобзает он меня лобзанием уст своих!» — эти слова «Песни Песней» уже рано стали выражением и символом не физической страсти, а именно духовного томления по единому достойному, по конечному и основоположному Предмету любви, который один только и может удовлетворить жажду души. В христианском мире уже Ориген (3–го века) и Григорий Нисский (4–го века) толковали в этом смысле древнееврейскую «Песню Песен». Особенно подвергались толкованию следующие слова: «Я сплю, а сердце мое бодрствует. Вот голос возлюбленного моего, который стучится: отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя! Голубица моя, чистая моя! Потому что голова моя вся покрыта росою, кудри мои — ночною влагою… Возлюбленный протянул руку свою сквозь скважину, и внутренность моя взволновалась от него. Я встала, чтобы открыть возлюбленному моему, и с рук моих капала мирра… Отперла я возлюбленному моему, а возлюбленный мой повернулся и ушел. Души во мне не стало, когда он говорил; я искала его, и не находила его; звала его, и он не отзывался мне… Заклинаю вас, дщери Иерусалимские, если вы встретите возлюбленного моего, что вы скажете ему? — что я изнемогаю от любви» (5.2,4–6,8). И еще: «Друг мой похож на серну или на молодого оленя. Вот он стоит у нас за стеной, заглядывает в окно, мелькает сквозь решетку. Возлюбленный мой начал говорить мне: встань, возлюбленная моя, прекрасная моя, выйди! Вот зима уже прошла; дождь миновал, перестал. Цветы показались на земле, время пения настало, и голос горлицы слышен в стране нашей» (2.9–12). «На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя, искала его, и не нашла его. Встану же я, пойду по городу, по улицам и площадям, и буду искать того, которого любит душа моя. Искала я его, и не нашла его. Встретили меня стражи, обходящие город: «Не видали ли вы того, которого любит душа моя? Но едва я отошла от них, как нашла того, которого любит душа моя, ухватилась за него и не отпустила его» … (3.1–4). Через все Средние Века проносится отзвук этой Соломоновой «Песни Песней». В этих гениальных словах, с неподражаемой силой выразивших любовное томление, ощущается (уже в еврействе, как мы видели, и у Отцов Церкви) другое — более сильное, более решающее, более захватывающее томление, и искание, утрата, горечь оставленности и… нахождение! То, чем живет душа, глубочайшая драма души, находит себе выражение в этой драме возлюбленной, ищущей, жаждущей и … потерявшей своего Возлюбленного. — так заканчивается каждая строфа латинского средневекового гимна, изображающего это томление духа. «A donde te escondiste, Amado у me dejaste con gemido? Como ciervo huiste, Habiendo me herido. Sali tras te llamando у eres ido!» — так начинается знаменитая поэма Иоанна Св. Креста (Juan de la Cruz) 16–го века: «Кудаж Ты удалился, Мой Друг, мне сердце поразив жестоко? Ты как олень вдруг скрылся. В печали одинокой Я вышла вслед Тебе, но Ты уже был далеко …» И следуют эти несравненные картины томления, высшие перлы религиозной лирики Южно–Романской Европы: «Apaga mis enojos Puesque ninguno basta deshacelios, Y veante mis ojos. Pues eres lumbre dellas Y colo para te quiero tenellos. («О умири мое томление, ибо никто не в состоянии его успокоить! и пусть увидят Тебя мои очи, ибо Ты — свет их, и только, чтобы видеть Тебя, дорожу я ими!») «Oh cristalline fuente, Si en esos tus semblantes platados Formases de repento Los ojas descados Que tengo en mis entranas dibujados!» («О кристальный источник, еслиб ты только мог в твоем серебряном зеркале внезапно изобразить те заветные очи, которые запечатлены во внутренних глубинах моего сердца!»). И душа обретает своего Возлюбленного: «Oh noche que guiaste, Oh noche amable mas que la alborada, Oh noche que juntaste Amado con Amada, Amada en el Amado transformanda!» («О ночь, что вела меня! О ночь, что сладостнее рассвета! О ночь, что объединила Возлюбленного с возлюбленной — с возлюбленной, преображенной в Возлюбленного своего!») Точно так же мистик 13–го века Раймунд Люллий говорит о бесконечном томлении любви по едином всепревосходящем Возлюбленном души в своем диалоге «De amico et amato». Есть радость в муках любви. «Спросили Друга, кто такой его Возлюбленный? — Друг ответил, что Он — тот, кто заставляет любить и жаждать Себя и томиться по Себе: Он — Тот, кто является причиной воздыханий и слез, а также осмеяния со стороны людей и, наконец, смерти и гибели; но вместе с тем Тот, кто делает смерть слаще жизни, позор осмеяния — драгоценнее чести, слезы и воздыхания усладительнее смеха и радости». «Возлюбленный спросил Друга своего: Помнишь ли ты что–нибудь такое, что я дал тебе, из–за чего бы ты меня любил? — Друг ответил: Да, ибо между радостями и страданиями, которые Ты мне даешь, я не делаю различия» (там же, VII). — Спросили Любящего: Что такое блаженство? — Он сказал, что это — то страдание, которое испытываешь ради любви» (LXVT). «Скажи, зачарованный любовью, — спросили его в другой раз — есть ли у тебя деньги, сокровища? — У меня есть — ответил он — любовь и любовные помыслы, есть слезы, порывы, есть страдание и томление: а все это бесконечно дороже, чем царство или владычество» (CLXXI) [5]. И другие образы, также нередко вдохновленные Писанием, встречаются в религиозной истории человечества для выражения этого духовного искания и устремления души. Так например, Ориген, комментируя ветхозаветные книги «Исход» и «Числа», находит выражение для томления рода человеческого в образах «палаток» и «колодцев», которыми пользовались в своем странствии по пустыне сыны Израилевы. Так и мы призваны не строить себе постоянных домов, а быстро по приказу собирать палатки свои и двигаться вперед в неослабном искании Вечной Истины. «Палатки суть род временного пристанища для тех, кто постоянно в пути… Обратите внимание на их палатки, в которых они постоянно странствуют и постоянно двигаются вперед, и чем больше они продвигаются вперед, тем больше разрастается перед ними их путь продвижения и простирается в бесконечность» (Толкование на книгу Чисел, слово 17,4). А колодцы, копаемые в пустыне, тоже — образ томления нашего по Боге живом, по Источнике Вечной Жизни. «Вернемся к Исааку и будем вместе с ним копать колодезь живой воды… будем так долго копать, пока воды колодца не выйдут из берегов своих и не затопят мест обитания нашего…» «Посмотри, какой источник воды живой находится, может быть, в душе каждого из нас… Каждый из нас, что являемся служителями Слова, копает колодезь и ищет воду живую, чтобы утолить жажду слушателей» (Толкование на книгу Бытия, слово 13,4; там же, 1–4) [6]. Евангельский образ воды живой, текущей в жизнь вечную и утоляющей томление пьющих от нее, глубоко пронизает всю внутреннюю жизнь и все писания Оригена [7]. Образ странствия, исполненного томления по заветной, далекой цели, тем более недоступной, чем она священнее и желаннее, встречается и в ряде легенд и сказаний Средних Веков, посвященных исканию Земного Рая (сказания восточные и западные) и в западных средневековых легендах о св. Граале, который, согласно легенде, есть величайшая святыня на земле — чаша Тайной Вечери и вместе с тем чаша, в которую собрали струившуюся с Креста Кровь Христову, над которой беспрестанно незримо совершается небесная Евхаристия в непрерывном сос л ужении ангельских чинов [8]. Ее могут достигнуть и узреть только немногие избранные, только чистые сердцем и герои духа и только после величайших напряжений и усилий. Сказание о Земном Рае и повести о Св. Граале суть подлинные повести религиозного томления. Но самый яркий и непосредственно напрашивающийся образ — бездна сердца, которая не может быть ничем тварным заполнена и жаждет безмерности Божией для своего заполнения. Нередко вспоминались слова псалмопевца: «Бездна бездну призывает голосом водопадов Твоих» — «Abyssus abyssum invocat». Эти слова все снова комментируются мистиками Средних Веков. А в 17–ом веке Паскаль пишет: «Le vide du coeur, le gouffre infini ne peut etre rempli que par un objet infini et immuable, c’est–a–dire, par Dieu luimeme» — «Зияющая пустота сердца, бесконечная бездна может быть заполнена только Предметом бесконечным и непреложным, т. е. самим Богом». Различные образы, различные голоса говорят о том же — о пустоте сердца без Бога, о томлении духа, о жажде духовной. Но оставим образы и вернемся к существу дела — посмотрим, как это томление проявлялось в течение многих веков истории человечества и какие ответы оно находило. Остановимся лишь на некоторых примерах. Древняя Индия. В ней есть фон глубокого пессимизма, усталости от жизни и тщеты, ужаса и . перед смертью и перед кошмарным колесом бесконечных перерождений. Но есть выход!, Из Упанишад, например, (наряду с детской игрой слов и грубым магическим суеверием) звучит опять и опять на разные тона и с разных сторон: [9] истинная, основная Реальность принадлежит лишь Тому, Единому, мир существует лишь чрез Него, или мир есть Оно Само, только под нашим углом зрения, или мира нет и вовсе. Но есть То — «Полнота» бытия [10], Подлинное, Неиссякаемое, Бессмертное, то, где душа может успокоиться, истинная сущность души, не только ее Родина [11] и цель, но ее субстанция, основа, «Атман» — великое мировое «я», «Самость» мира и души, «Реальность Реальности» (Satya Satyasya) [12]. Это есть — «цель Упанишад» [13], имя Ему — «Предмет Томления» [14]; «кто познал Его, становится мудрым, и ища Его пускаются в путь аскеты, в томлении по (иному) краю»; и еще: «познав Его, брахманы перестают желать себе сыновей, имущество, миры, и как нищие пускаются в бездомную жизнь» [15]. Ибо что стоит наш мир и все его блага и наслаждения и богатства: «весь мир есть добыча смерти» [16], он полон зол, он охвачен беспрестанным процессом умирания, всеувлекающим вихрем преходящести, и так далее без конца — в бесконечных повторениях [17], он безрадостен и объят тьмою [18]. Наша истинная сущность, наше истинное «я» томится в нем, как пленник, как бессильный, жалкий калека, скованное цепями смерти и мучительных, все новых возрождений, как человек, опьяненный злыми чарами, волшебным зельем наваждения и обмана [19]. Поэтому «спаси меня!» — взывает царь Brihadratha к мудрецу Cakayanya: «ибо я чувствую себя в этом мире, как лягушка в безводном колодце» [20]. К чему мне все блага мира, «к чему мне все то, что не может мне доставить бессмертия?» говорит мудрая жена мудреца Яжнавалкьи [21]. «Из небытия возведи меня к бытию, из тьмы возведи меня к свету, из смерти возведи меня к бессмертию», так читаем в одной из Упанишад [22]. Ибо есть Нечто, или Некий «Нестареющий, Древний … Вечный» [23], «существующий Сам через Себя», нечто «Бессмертное, Постоянное», «не знающее изменений» [24], «Лучезарное и Непреходящее» [25]. Это то, что «по ту сторону голода и жажды, скорби и заблуждения, старости и смерти» [26], «Великое, свободное от болезней» [27], «имя которому: «Высоко», ибо Он высоко вознесся над всяким злом» [28], Неизреченный, Непостижимый, «глубоко сокрытый, которого нельзя ни охватить мыслью, ни измерить» [29], Истинный, Тот, про которого можно лишь сказать: «Он есть!» [30] и который один только истинно и существует [31]. В Нем прибежище [32], и избавление и жизнь, Он есть желанный «берег», «по ту сторону скорби» [33]. Про него говорится: «Бесконечное есть блаженство. Ни в чем конечном не может быть блаженства. Только в бесконечности — Блаженство» [34]. И еще: «Брахман есть Блаженство I» [35] И изо всех концов этих древних памятников звучит нам: «Кто познал Его, достиг избавления; кто познал Его, достиг покоя; кто Его познал, становится бессмертным!» [36] Это и придает Упанишадам тот тон сдержанного пафоса, глубокого сердечного волнения, мистического трепета и глубины, который охватывает лучшие из них [37]. Радостую весть возвещают они: есть избавление из царства смерти, преходящести, множественности, несовершенства. Познай, что все это — Атман, великий Атман, и нет ничего вне Его; познай, что твоя душа укоренена в Нем [38], что твоя душа есть Он (tat tvam asi) [39] — «это — ты!»; индивидуальность, самость, самоотделение есть злая иллюзия: истинно существует лишь То, Великое, Единое. Когда это познаешь, то «развязываются все узы» [40]. «Тот, кто прошел по этому мосту, если был слеп, перестает быть слепым; если был ранен, перестает быть раненым; если был скорбным, перестает быть скорбным. Поэтому, когда пройти через этот мост, то ночь становится днем, ибо мир Брахмана светел вовеки» [41]. «Для того, кто познал истину Брахмана, солнце уже не всходит и не заходит — для него вечный день» [42]. И еще: «тот, кто постиг То, что беззвучно, безобразно, что неощутимо, что не имеет ни запаха, ни вкуса, что не знает одряхления, Вечное без начала и без конца, превосходящее всякую величину и неизменное, — тот освободился от челюстей смерти» [43]. «Глазом этого Атмана нельзя увидеть. Но те, кто сердцем и умом познали Его как пребывающего в сердце, те становятся бессмертны» [44]. Это не есть обычное познание, это есть мистическое переживание, неизъяснимое и непонятное, непередаваемое в категориях рассудка, но вместе с тем глубоко реальное: «Его, Атмана, не может познать познающий — Он познается не–познающим: в ком Он пробудится, тот знает это и обретает бессмертие» [45]. Он близко, Он внутри, Он раскрывается в глубинах сердца, как интимнейшая основа нашего существа и всего существующего: «Есть один Правитель–Атман, который во всех вещах… Мудрецам, которые узрели Его обитающим в глубине своего «я», им одним принадлежит вечное блаженство, и никому иному» [46]. Тексты Упанишад полны восторженных речений об этих повышенных переживаниях, об этой радости и блаженстве, несравнимых с радостью земли, ощущаемых теми, что достигли Атмана: «Мудрец, что чрез созерцание во внутреннем существе своем, познал сего Древнего, трудно зримого, в темноту ушедшего, во внутренней пещере сокрытого, в бездне пребывающего — как Бога: тот поистине оставил далеко за собой и радость и горе. Смертный, который услыхал и воспринял это, который отбросил все внешнее и достиг тонкого и внутреннего Существа, тот радуется: ибо он приобрел То, что является источником радости» [47]. Желания успокоены [48], душа охвачена глубоким миром [49], распались узы, связывавшие сердце [50]. Недаром, сияет лицо у познавших Атмана [51]. «Они», говорится в Катхака—Упани–Лад, «ошущают высшее, неописуемое блаженство, говоря: Это есть «то» (т. е. отождествляя себя с Атманом) [52]. «Счастье того, кто чрез глубокое созерцание омыл свой дух от всякой нечистоты и погрузился в Атмана, не может быть описано никакими словами: это нужно самому испытать в глубине сердца» [53]. Достигший такого объединения с Единой Реальностью восклицает в Махабхарате: «Я нашел в Брахме свое основание, я подобен прохладной воде среди летнего зноя, я успокоился, я достиг полного угашения (parinirvami), одно блаженство окружает меня» [54]. Мудрец Паньчадаси, представитель позднейшей религиозной философии — систематизации и развития философии Упанишад (системы Веданты), так изображает в восторженном гимне это высшее, блаженное состояние духа: «Я счастлив! я счастлив! Я имею непосредственное познание Вечного Атмана, который во мне. Я счастлив! я счастлив! Блаженство Брахмы явственно открылось моему взору. Я счастлив, я счастлив! Отныне я не буду более ощущать скорби существования; неведение, в котором я был относительно самого себя, исчезло. Я счастлив, я счастлив! Мне больше ничего не остается, что бы я должен был еще сделать. Я достиг всего, что должно было быть достигнутым. Я счастлив, я счастлив! Какое счастие в мире может быть приравнено к моему? Я счастлив, я счастлив, да — дважды и трижды счастлив!» [55] Избавление же это и блаженство состоит, как мы уже видели, в том, чтобы познать, что мы не отличны, что мы вполне тождественны с вечным Атманом, что все отличие и индивидуализация есть лишь злая иллюзия, лишь обман, лишь наваждение, которое бесследно исчезает для того, кто ощутил этот божественный Атман за свое «я», за себя самого. «Поистине, кто познал это высшее Божественное (Брахман), тот сам уже есть этот Брахман». «Если человек уразумел Атмана, говоря: «я — Он», то что еще остается ему желать? ..» [56] Т. е. избавление дано в пантеистическом отождествлении своей духовной сущности с божественным Абсолютом. Решение проблемы, свидетельствующее об огромном пафосе духовного порыва, но полное тех внутренних противоречий, которые носит в себе пантеизм вообще, в частности пантеистическое приравнение слабой, бедной человеческой природы к исконной и божественной Реальности. Проблема зла — греха, страдания и смерти остается нерешенной. Далее, холодом веет от безмерного, все обнимающего и все поглощающего в себя, но не согретого жизнью любви, Бога Упанишад [57]. Наконец, путь, по которому шествуют души — к достижению этого Бога! Он часто полон внутреннего пафоса — пафоса страстного искания и отречения от всего ради этого познания Единой Реальности [58]. Мы видели, что отвечала жена мудрого Яжнавалкьи своему мужу, когда он, уходя из мира в уединение, хотел оставить ей свои богатства: «К чему мне то, что не может мне доставить бессмертия? Лучше поэтому сообщи мне, господин, то знание, которым ты обладаешь» [59], Напрасно и бог смерти Яма старается соблазнить молодого брахмина Начикетаса всеми благами мира — лишь бы тот отказался от искания ответа на свой бесстрашный вопрос о конечной цели бытия, и жизни по ту сторону смерти. Но нет дара, равного этому познанию, и Начикетае отвергает все соблазны Ямы, все его обольстительные обещания и избирает познание Тайны [60]. «Познав этого Атмана» — мы видели — «брахманы перестают желать себе детей, имущество, миры, и как нищие пускаются в бездомную жизнь» [61]. Так и в Махабхарате читаем: «Кто не отрекся, не придет к блаженству; кто не отрекся, не придет к Вышнему; кто не отрекся, не уснет в бег зопасности и мире. Отрекись от всего и будь счастлив!» [62] В таких чертах рисуется в одной из Упанишад идеал мудреца: Он «успокоен, укрощен духом, полон отречения, терпелив и сосредоточен, он видит себя в Атмане, он на все взирает как на Атмана. Страдание не побеждает его, он побеждает страдание … Он свободен от зла, свободен от осквернения, свободен от сомнений» … [63] Сходным образом изображается идеальный мудрец и в одном месте Махабхараты: «Свободный от противоположностей, от внешних почитаний и зовов о помощи, без самости, без сознания своего «я», без приобретений и обладания, причастный к высшему «Я» (Атману), без желаний, без качеств, умиренный, без привязанности и зависимости, держась Атмана и познавая Реальность, он будет избавлен, в этом нет сомнения!» [64] Однако нужно сказать: недаром таким холодным является Бог Упанишад и Веданты — холодом веет и от этого пути объединения с Ним. Все дело — в познании и в бесстрастной эмансипации от всех связей и всех привязанностей, вытекающей из познания. Добродетель является лишь средством, лишь ступенью к этому высшему равнодушию [65], к этому совершенному квиэтизму [66], что уже по ту сторону нравственного различения, по ту сторону добра и зла [67]. И при том путь этот одинок и полон эгоизма: нет здесь любви [68], той горящей любви, что изливается со своего Вечного Объекта и на мир и на ближнего. Безмятежное, холодное, квиэтическое бесстрастие — недаром в Махабхарате сравнивается такой мудрец с бесчувственным камнем [69] — подавление всех чувств и представлений [70], а под конец усыпление и самого сознания (иногда уже путем искусственной тренировки) [71] — вот в каких красках нередко рисуются взору высшие ступени этого пути и самая цель его — объединение с Атманом [72]. 5 И в античном мире встречаем томление духа. В древней Греции, а затем в греко–римском мире, в эпоху эллинизма, мы имеем ряд религиозных движений и культов, которые стремятся дать ответ на горячую жажду души — жажду бессмертия, избавления от преходящести, от страданий, от уничтожения [73]. «Я истомилась от жажды и погибаю» — так говорит (на орфической могильной табличке) душа, затерявшаяся в пустыне жизни. Удовлетворение своей жажды, Полноту Жизни, Полноту Бытия ищет иногда она на лоне великого природного Целого — У грудей Матери–Природы, в мощно–текущей, охватывающей ее со всех сторон жизни Космоса, полной производящей силы, сотканной из умираний и рождений, вечно юной и вечно–обновляющейся. Таков смысл великих натуралистических культов — культа Диониса, с его буйным веселием пробуждающихся юных сил и соков Природы, с его торжеством и печалью, таковы таинства передневосточных ежегодно умирающих и воскресающих богов природной жизни — Аттиса, Адониса, Озириса–Сераписа, воспринятые античным миром в эпоху эллинизма. Душа стремится погрузиться в это манящее лоно великой природной и божественной жизни, она стремится слиться с ней, отказаться от своего ограниченного, утлого человеческого «я», сделаться одной из струек в этом общем, огромном, стихийно волнующемся потоке, отождествиться с этим постоянно воскресающим, вечно юным богом! Недаром в культе Диониса–Вакха поклонники носят имя самого бога: (Закх<н. Теснейшее органическое объединение с богом давала, в культе Диониса, повидимому, и сакральная трапеза, ибо молодой бычок или козленок, раздиравшийся верными на части и жадно ими пожиравшийся в сыром виде, являлся, повидимому, временным воплощением самого бога. В позднейших эллинистических, пришедших с Востока, культах умирающего натуралистического божества имеем то же интимное, тесное участие в божественной жизни: участие в страданиях бога, скорбь вместе со всей природой о роковой, вечно неотменной, вечно–повторяющейся, бессмысленной и жестокой его смерти — когда замирали природные соки и высыхала растительность под действием палящего зноя, и радость об его восстании к жизни — когда возрождалась жизнь Природы. С этим восстанием бога к новой жизни соединялись горячие чаяния мистов. Наивысший подъем этих чаяний (или во всяком случае наиболее яркое дошедшее до нас выражение их) имеем в тех словах, что в одном из таких культов жрец провозглашал торжественным шепотом, ночью, среди напряженного безмолвия верных. Он возвещал им восстание, оживление только что еще перед тем бездыханного и оплакиваемого бога: «Мужайтесь, мисты спасенного бога: И нам из скорбей избавление грядет!» [74] Бог воскрес — и мист воскреснет, и мист приобщится к его торжествующей, победной, вечно обновляющейся Жизни! таков смысл этих чаяний [75]. Но что это была за Жизнь? была ли в ней Полнота и преодоление смерти и скорби умирания и железных, безжалостных законов мира? Это была великая жизнь природного Целого, подчиненная этим вечным и роковым мировым законам, жизнь, гармония и богатство которой было соткано из радостей, а вместе с тем — и из страданий, из жизненного подъема, а затем — и отмирания всего отдельного, всего индивидуального, жизнь, которая в сущности была равнодействующей, слагаемой бесконечного ряда смертей, которая была ограничена и замкнута в вечно–неизменном, неотменимом, натуралистическом круговороте. Из этого мучительного круговорота, из этого царства природной закономерности и необходимости, из царства жизни природной, которая являлась на самом деле царством смерти, прекрасный умирающий юноша — бог не мог вырвать верующие в него души. Он сам был его рабом и пленником, более того — сам был олицетворением этого круговорота: он умирал роковым и бессмысленным образом, невольно и необходимо, смерть его была лишена всякого духовного порыва, всякого просветляющего этического значения — ужасная и неизбежная смерть оскопленного бога оплодотворяющих сил Природы; а когда он воскресал, то для того, чтобы снова и снова умирать, и так далее, без конца. Такой бог не мог быть адэкватным носителем этих связывавшихся с его культом горячих чаяний, этой жажды сердца, что стремилось успокоиться, отдохнуть от потока преходящести, от томящего круговорота, освободиться от власти тления и умирания на лоне Полноты Жизни. Случайно, из целого ряда дошедших до нас могильных табличек (от IV го в. до P. X. по П в. по P. X.), мы знаем, что таинства орфиков обещали своим верным это освобождение из «круга». Орфики как раз особенно болезненно и остро ощущали скорбь бывания и преходящести. С таким ужасом говорят они о неизменном космическом круговороте смертей и рождений: это безрадостный «круг Необходимости» «колесо становления и рока» «круг горестный, тяжелый». Но орфическая душа чувствует, что она «не от мира сего»: «Земли я дитя и звездного неба, Но род мой — небесный» … и она верит в конечное избавление из под власти космоса и его законов чрез приобщение к божественной жизни: «Я выскочил из круга тяжелого и горестного! «Я достиг желанного венца быстрыми стопами… «Блаженный и счастливейший, богом ты будешь вместо человека» [76] В этих орфических чаяниях греческая душа временно как будто отделяется от почвы натурализма, однако это было лишь временным порывом; божественная жизнь для орфиков есть жизнь того же великого, космического Целого, могучая и радостная в своем бурном, всеохватывающем потоке, полная сил и подъема, но… скованная теми же цепями натуралистического закона всеобщей смерти и тления. В этих чаяниях орфической души сказалась горячая жажда иной — подлинной Полноты Бытия, жажда избавления. И тем не менее, выхода, т. е. не временного, а окончательного выхода из круга на почве натурализма и натуралистической веры быть не может. Здесь же – мы еще в царстве натурализма [77]. Нравственный и религиозный порыв орфической веры стремится раздвинуть его рамки, вырваться за его пределы и временно как бы отделяется от его почвы. Но неумолимый Рок все возвращает опять на свое место. Божественная просветленная жизнь есть жизнь лишь тех же высших космических сил, и, как ни жаждет того душа, но круг ложного бывания, злое, мучительное «колесо генезиса» еще не отменено навеки. Философия Платона провозгласила иной мир — мир вечных, нетленных сущностей, не подчиненных законам бывания и изменения, «не смешанных с земным сором», мир изначальной, подлинной и непреходящей Реальности! Более того: собственно тот, истинный мир один только в действительности и существует, весь наш окружающий эмпирический мир есть лишь отблеск его в мутном зеркале «небытия» — материи, сам же по себе лишен всякой субстанциональности; ибо все бытие и вся действительность и жизнь принадлежит лишь тому Царству — вечных и божественных идей. И это есть родина души. Каким мистическим подъемом дышут те места в «Пире», «Федре» и «Государстве», где Платон пытается изобразить безмерное и покоряющее душу величие и красоту подлинной Божественной Жизни! «Кто в последовательном порядке и правильно созерцал красоту», читаем в «Пире», «тот, приближаясь уже к окончательному посвящению в таинства любви, неожиданно узрит нечто изумительное, Прекрасное по самому существу своему, то самое, ради чего были понесены и все предыдущие труды. Эта Красота, во–первых, вечна, не подвержена ни возникновению, ни гибели, не растет и не ветшает, во–вторых, она не является прекрасной с одной стороны и безобразной с другой, иногда — да, а иногда — и нет, прекрасной в одном отношении, а безобразной в другом, здесь прекрасной, а там безобразной, прекрасной для одних и безобразной для других». Красота эта не предстанет ему подобной какой–нибудь частной, отдельной красоте, чувственного или духовного порядка, «ни как нечто пребывающее в чем–либо другом, напр, в живом существе или на земле, или на небе, или еще в чем–нибудь, но она откроется ему пребывающей сама по себе и постоянно тожественной сама собою, тогда как все остальные прекрасные вещи причастны к ней… Предположим, что кому–нибудь удастся узреть самое абсолютную красоту, чистую, светлую, несмешанную, незапятнанную человеческой плотью и красками и всевозможным другим смертным сором, но самое божественную Красоту в ее простоте и единстве — думаешь ли ты, что плоха была бы жизнь такого человека, взирающего туда и созерцающего эту красоту и пребывающего с ней в общении?» [78]. Поскольку и мир земной рассматривается Платоном лишь как послушное отображение того, горнего мира, — и он прекрасен, и восхваляется в восторженных выражениях (так в «Тимее»). Однако, на этой точке просветленного монизма, видящего повсюду лишь единое царство подлинной Реальности, Платон не смог удержаться: материя и связанный с нею принцип иррациональности, косности, несовершенства и зла в мире, хотя и отрицается за ними метафизическая сущность, хотя материя признается «небытием» — тем не менее дают себя чувствовать в достаточной мере ощутительно и реально. Отсюда тот резкий дуализм, выступающий у Платона в самые различные периоды его философского развития, отсюда глубокие ноты пессимизма и призыв бегства из мира. Особенно ярко это пессимистическое отношение к окружающей нас ложной действительности выразилось в знаменитом мифе о «Пещере» (из VII кн. «Государства») или в следующих словах из «Феэтета»: «Зло не может ни быть искоренено, ибо всегда должно быть что–нибудь противоположное благу, ни иметь своего пребывания у богов. Но вращается оно по необходимости в смертной природе и в этом нашем месте», т. е. дольнем мире. «Поэтому–то и нужно стремиться бежать отсюда туда возможно скорее» [79]. Итак разрыв между обоими мирами! бежать отсюда туда, из области лжи и тления на ту родину духа, в то царство нетленной и изначальной Красоты, царство незыблемой Истины! Ибо душа, по самой природе своей, органически сродственна, «подобнее всего божественному, бессмертному, умному и одновидному, неразлагающемуся и всегда неизменно и тожественно пребывающему» [80], и в нем она обретает свою подлинную жизнь; отдаваясь же чувственному, она живет ложной видимостью жизни недостойной ее, униженной и животной. Там — заветная пристань души, источник и цель ее томления. Когда Платон говорит об этой заветной цели, хотя бы мимоходом, мистический трепет согревает его слова. «Пришедший к ней находит как бы отдых от пути и конец своему странствию» [81]. Уже при жизни душа философа, удаляясь чувственности и следуя разуму, «созерцает Истинное, Божественное и Непреложное и питается им» [82]. Бея жизнь философа есть поэтому томление по небесной родине, «подготовка к смерти» [83], отрицание мира и дел его. Это настроение запечатлено в целом ряде важнейших диалогов. Правда, Платон делает также и попытку примирить оба мира, перебросить мост между ними — в учении об Эросе и в утопии идеального Государства. Однако облагораживающая сила Эроса не касается самой материи, а лишь отблесков духовного начала, рассеянных среди нее, а идеальное Государство оказывается несостоятельным: в действительности оно — царство безмерного духовного гнета, а познание Истины, ради которого оно собственно только и существует, является достоянием лишь немногих избранных — лишь аристократов духа. И философия Платона возвращается таким образом к той же раздвоенности, той же непримиренности, тому же исходному пункту. Мир земной «во зле лежит»; есть мир Правды; нужно бежать туда в этот мир Правды отдельной душе или же небольшой кучке избранных — истинных философов. А мир остальной так и обречен во зле лежать и нет ему избавления: ибо нет в нем исторического процесса, поступательного развития, а царит в нем лишь неизбежный, вечно повторяющийся натуралистический круговорот. Царство тления, область бывания и ложной видимости, так же вечно, так же неизменно существует в своей изменчивости, как и царство подлинно реального — нетленных и вечных идей. Материя, как мы видели, необъяснима. Она — небытие, й в то же время она — источник всего несовершенства и зла в мире, она имеет силу заглушить, исказить отблеск идеальных «образцов», прототипов всего существующего, она дает чувствовать себя в достаточной мере ощутительно и реально. Зло в мире неизбежно, неотменимо и необходимо: оно есть необходимое следствие смешанного происхождения всего видимого космоса, этой смеси истинного «бытия с небытием», оно вытекает из самой природы вещей. И смерть и тление, как и зло и несовершенство, несмотря на всю красоту этого чувственного мира, которую так прославляет Платон в своем «Тимее», царят в этом мире вечно и непреложно. Нет полноты победы жизни над смертью, торжества царства духа над царством тления. Существует вечный, реальный мир идей, которому присуща истинная действительность, а во главе этого царства идей возвышается Идея Блага, или же Бог, Создатель, Устроитель мира, согласно «Тимею». Но неподлинная, неистинная реальность, натуралистический мировой процесс, с его законом преходящести и уничтожения, сила материи, в основе своей независимой, чуждой и враждебной Божеству и в то же время лишенной метафизического бытия, сила, стало быть, небытия, принцип косности и смерти полагал предел Божественной власти. О натуралистический, вечно–неизменный, вечно–тожественный «Status quo» разбивалась мощь горней, идеальной действительности, сила абстрактно–рационалистического, бледно трансцендентного философского Бога. Такой Бог, односторонне–исключительный и холодный, далекий миру, по существу своему — безлично–логическое понятие, результат философской абстракции, не мог победить реально–царящую в мире смерть, не мог раскрыть в мире всепобеждающую, всеохватывающую, преизбыточествующую — конкретную полноту Царства Вечной Жизни. 6 Струя томления очень заметна в Ветхом Завете. С одной стороны это (на фоне вообще очень положительного отношения к земным благам, как к дарам Божиим, получаемым человеком) — крик глубокой неудовлетворенности всеми благами мира в «Екклезиасте»: все — суета сует и томление духа. Во всей мировой литературе может быть нет других таких слов скорби равных этим по красоте и по силе тоски. «Суета сует, сказал Екклезиаст, суета сует — все суета! Что пользы человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Род проходит, и род приходит, а земля пребывает во веки… Идет ветер к югу, и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои… Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем… Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после. Я, Екклезиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме, и предал я сердце мое тому, чтоб исследовать и испытать мудростию все, что делается под небом… Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот, все — суета и томление духа! … И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость, узнал, что и это — томление духа. Потому что во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь». Он отдается и веселию и усиленному строительству: строит себе дома, выкапывает водоемы для орошения, насаждает рощи и виноградники, и плодовые деревья. Он собирает у себя хоры наилучших певцов и искусных музыкантов. И все — суета! Как и мудрость, которую он приобрел, также суета: «Ибо одна участь ожидает их всех». «Потому что мудрого не будут помнить вечно, как и глупого; в грядущие дни все будет забыто, и увы! мудрый умирает наравне с глупым.» «И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем… Ибо что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца своего, что трудится он под солнцем? … И это — суета!» «И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем: ибо все — суета и томление духа!» Ответ на эти возгласы скорби, на эту неудовлетворенность дается — в общении с Богом. «Кто мне на небе (кроме Тебя)?» восклицает псалмопевец. «И на земле я, кроме Тебя, не желаю ничего. Изнемогает плоть моя и сердце мое; Бог — твердыня моя и часть моя вовек» (Псал. 72. 25–26). Поэтому «как лань жаждет потоков воды, так жаждет душа моя Тебя, Боже!» (Псал. 41). «Душа моя как земля безводная по Тебе!» (Псал. 142). «Открываю уста мои и вздыхаю: ибо заповедей Твоих я жажду» (Псал. 118). Наряду с этим томлением — по общению души о Богом живым, есть и другая струя томления: по спасению общенародному, и более того — всечеловеческому и всемирному, по Князю Мира, — то что называется — и правильно называется — «мессианскими чаяниями» Ветхого Завета. Ожидание и чаяние, что Бог посетит людей Своих. Это томление по грядущему «покою», по грядущему Царству Мира и Правды, прорывается все снова и снова. Это не только политически–социальная греза, морально окрашенная, это — воздыхание вместе с тем о Царстве иного, высшего порядка, это — мечта о Царстве Божием среди людей, о преображении людей, а вместе с ними и всего мира, силою Духа Божия. Пророк полон томления: «Доколе не излиется на нас Дух свыше, и пустыня не сделается садом, и сад не будут считать лесом. Тогда суд водворится в этой пустыне, и правосудие будет пребывать на плодоносном поле» (Ис. 32. 15–16). Новое сердце будет дано людям и новое разумение, и Новый Завет заключит тогда Господь с людьми своими: «И да|м им сердце, чтобы знать Меня, что Я — Господь, и они обратятся ко Мне всем сердцем своим». «Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет. Не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли Египетской; тот завет они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот Завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду их Богом, а они будут Моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат — брата и говорить: «познайте Господа», ибо все сами будут знать Меня, от мала до велика, говорит Господь, потому что Я прощу беззакония их и грехов не вспомяну более (Иер. 24.7; 31. 31–34; срв. Иез. 36. 25–27). Иногда эти чаяния связываются с образом Князя Мира, Царя Правды, т. е. Мессии. «Ибо младенец родился нам, Сын дан нам, владычество Его на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира. Умножению владычества Его и мира нет предела на престоле Давида и в царствии его» … (Ис. 9. 6–7). И еще: «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его. И почиет на Нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия. И страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей Своих, и не по слуху ушей Своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать по истине; и жезлом уст Своих убьет нечестивого. И будет препоясанием чресл Его правда, и препоясанием бедр Его — истина. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицею и детеныши их будут лежать вместе; и лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе Моей: ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. И будет в тот день: корень Иессеев как знамя для народов; Его взыщут язычники, и покой Его будет слава» (Ис. 11. 1–10). Особенно таинственными являются в Исаии места, относящиеся к «Возлюбленному Моему, к которому благоволит душа Моя», к образу кроткого, уничиженного Избранника, который однако будет сделан «Заветом для народа»: «Он (Господь) сказал: мало того, что ты будешь рабом Моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля, но Я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение Мое простерлось до концов земли. Так говорит Господь, Искупитель Израиля, Святый Его, презираемому всеми, поносимому народом, рабу властелинов: цари увидят и встанут; князья поклонятся ради Господа, Который верен, ради Святого Израилева, Который избрал Тебя. Так говорит Господь: во время благоприятное Я услышал Тебя, и в день спасения помог Тебе; и Я буду охранять Тебя, и сделаю Тебя заветом народа, чтобы восстановить землю, чтобы возвратить наследникам наследия опустошенные; сказать узникам: «выходите», и тем, которые во тьме: «покажитесь» … Не будут терпеть голода и жажды, и не поразит их зной и солнце; ибо Милующий их будет вести их, и приведет их к источникам вод» (Ис. 49. 6–10). Образ «Ебед Ягве» — страждущего Раба Господня, Отрока Господня: «Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни… Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего на Нем, ранами Его мы исцелились» — этот таинственный образ полн каких–то новых неожиданных откровений, и к нему простирается взор пророка (Ис. 53). Для пророческого миросозерцания характерно это напряженное ожидание грядущих раскрывающихся судеб Божиих, это устремление вперед: «На стражу мою я стану, на башне буду стоять, чтобы узнать, что Он скажет мне», восклицает пророк Аввакум. И у него после ужасов настоящего и непосредственного будущего — отдаленное видение грядущего спасения: «Земля наполнится познанием славы Господней, как воды наполняют море» (2. 14). Это устремление взора вперед, столь характерное для миросозерцании пророков и вообще Ветхого Завета, есть выражение томления — полусознательного или сознательного — потому, что имеет совершиться: религиозного томления, устремленного на историю мира, на грядущее проявление величия и славы и милосердия Божия в истории мира, в судьбе всего творения. Томление не по моему только личному прикосновению к Полноте Божественной, имеющей удовлетворить мою духовную жажду, а по грядущему спасению мира. В этом — неумирающая напряженность религии Ветхого Завета, ожидание явления Божия. 7 Следующая глава > religion.wikireading.ru Михалина Шибаева «Томление духа» в менталитете этноса При обращении к этнокультурному многообразию и «разноголосию» (Бахтин) человечества трудно не оказаться в ситуации «обнаружения» сложности и безграничности всего проблемного пространства данного феномена. Естественно, что наличие проблемной «полисюжетности» и ее открытого характера обусловливает важность авторского самоопределения в круге нескончаемых вопросов и о национальных образах мира, и об уникальности каждого из типов «космо-психо-логоса» (Гачев), и о месте любого народа в мировом историко-культурном процессе, и еще о многом-многом, отражающем неповторимость и уроки этнических судеб. – 108 – Хорошо известно, что понятие хронотопа культуры, введенное А.Ухтомским и М.Бахтиным, неразрывно связано с ценностно-смысловыми и эмоционально-психологическими основаниями жизнедеятельности любого народа, своеобразно выражающего и в обрядах, и в пословицах, и в традициях семейно-бытового уклада единственность «вмещающего и кормящего ландшафта» и «отмеренность» (Гумилев) времени собственной судьбы. Поскольку же коллективные представления народа об исторических истоках его «времени и места» не могут не преломляться на индивидуальном уровне, то душевные переживания человека так или иначе воспроизводят этнокультурные особенности и в сфере темпорального мышления и в смысложизненной проблематике. (Как тут не вспомнить о картине Поля Гогена «Кто мы? Откуда? Куда мы идем?») Не трудно заметить, что в шукшинской трактовке смысловая наполненность бытия «простых людей» являет собой гармонизацию ценностей жизни и ценностей культуры. Как одна из моделей разностороннего и продуктивного самоосуществления «мира человека» шукшинский подход к решению смысложизненных вопросов вряд ли выглядит спорным. Однако в реальности многие тексты культуры (от былин и народных сказок до произведений профессиональных авторов) воспроизводят устойчивый, можно сказать, вечный характер того самого «томления духа», которое нередко активизирует не только духовно-нравственные искания личности, но и ее творческие задатки. С точки зрения обнаружения в творческих формах индивидуальных проявлений «космо-психо-логоса» различных народов известный интерес представляют два текста: «Жизнь Матвея Кожемякина» – 109 – Максима Горького и «Кола Брюньон» Ромена Роллана. Главных персонажей каждой из книг объединяет один и тот же способ подведения счета миру в конце жизненного пути типичных носителей и качественно определенного менталитета своего народа и этнического самосознания (русского и французского). Речь идет о стихийном выборе и жителем городка Окурова и мастером из Кламси жанра дневника, в котором каждый – в соответствии и с атмосферой родного края и с особенностями национального характера – воссоздает, истолковывает и оценивает жизненный опыт и впечатления от окружающего мира. – 110 – Во-первых, ночные размышления окуровского жителя, пытающегося самому себе объяснить в дневнике истоки его недовольства не столько окружающими, сколько самим собой, навеяны – 111 – Но грустно думать, что напрасно Была нам молодость дана, Что изменяли ей всечасно, Что обманула нас она; Что наши лучшие желанья, Что наши свежие мечтанья Истлели быстрой чередой, Как листья осенью гнилой. Несносно видеть пред собою Одних обедов длинный ряд, Глядеть на жизнь, как на обряд, И вслед за чинною толпою Идти, не разделяя с ней. Ни общих мнений, ни страстей. И как не вспомнить о многочисленных поэтических формулах переживаний Сергея Есенина – одного из «самых-самых» русских поэтов – о том, «как мало пройдено дорог, как много сделано – 112 – ошибок»?.. Не так уж случайно и то обстоятельство, что в драматургическом наследии Леонида Андреева две пьесы («Жизнь человека» и «Дни нашей жизни») воссоздают символическую трактовку вечной проблемы конфликта между краткостью земного бытия и Вечностью. Между тем эти образцы томления духа по промотанным дням, неделям, годам, десятилетиям жизни в определенной мере противоречат устойчивой традиции раскрытия своеобразия российского менталитета через абсолютизацию либо невозмутимо-эпического, либо беззаботно-лихого отношения к отмеренному времени жизни. Разве не были воспеты в русском фольклоре, чудеса – 113 – храбрости и смекалистости тех сказочно-былинных героев, которые, прежде чем совершать свои подвиги, не одно десятилетие провели на печи и в сладкой дреме? И вряд ли можно счесть случайным совпадением воссоздание в отечественной литературе разнообразных коллизий неспешно-сонного, а потому милого сердцу существования родных и близких Багрова внука у С.Т.Аксакова, старосветских помещиков у Н.В.Гоголя, обломовцев вплоть до самого Ильи Ильича у И.А.Гончарова, галереи персонажей в пьесах А.Н.Островского. Да и некрасовский вопрос-призыв «Ты проснешься ль, исполненный сил?..» несводим исключительно к социальному пафосу, а выражает томление духа поэта по духовно-нравственным и психологическим ракурсам этого «затянувшегося» сна. Феномен наличия в самосознании русского народа противоположных подходов к личностному времени между Жизнью и Смертью порожден многими факторами, в том числе и такой чертой менталитета, как отмечаемая многими деятелями отечественной культуры непоследовательность, а порой и парадоксальность. Нередко накопленный груз проявлений собственной непоследовательности и даже непредсказуемости порождает стремление объяснить эти свойства характера и оправдать их. Жажда самооправдания удовлетворяется в различных ситуациях – от полной исповеди перед случайным попутчиком до обращения к перу и бумаге. Высокий эмоциональный градус «самовыговаривания» в обстоятельствах встречи-диалога) и страстность «выплеска» в письмах, дневниках, автобиографических повествованиях «лежат в душе растревоженной» (Шукшин). – 114 – – 115 – – 116 – Брюньона, сопряженной с отпущенным ему талантом игры творческого воображения (вплоть до перевоплощения в образы плутарховских героев) и сопричастности одновременно к трем темпоральным измерениям бытия – прошлому, настоящему и будущему. Благодаря такому потрясению он вновь возвращает себе всю ту «веселость, всю ту жизнерадостность и лукавство, всю ту беспутную мудрость и мудрое беспутство», которые в синтезе представляют собой разновидность «этики благоговения перед жизнью» (Швейцер). – 117 – По сути, речь идет о мессианской форме томления духа, обусловливающей и тот нравственный максимализм, который прежде связывался лишь с носителями русской ментальности. Однако и жизнь, и поэтика всего наследия Экзюпери, и трагическое завершение в 1944 году его опыта защиты «культа Общего» вносит свои уточнения в трактовку феномена этнопсихологического своеобразия личности, ментальность которой так или иначе связана невидимыми нитями с «космо-психо-логосом» ее народа. Разумеется, персонажи Экзюпери (прежде всего его друзья-летчики, бедуины в пустыне, где терпит аварию самолет, случайные попутчики, любящие и любимые женщины) не могут быть «спутаны» с героями Шукшина – всеми этими «чудиками» и «странными людьми». Тем не менее мироощущение и маята как самих писателей, так и литературных выразителей всей сложности и страстности их духовно-нравственных исканий исполнены понимания необходимости включения в процесс гуманизации жизни и мира человека. Вероятно, томление духа являет собой то понятие и явление, без которого не могла состояться мировая культура. Где бы ни был рожден тот или иной народ, каковы бы ни были его мифы, грезы – 118 – и другие формы переживания своей «самости» и уникальности, каким бы этическим и эстетическим категориям при оценке жизненной «диалектики приобретений и утрат» (Гегель) он не отдавал предпочтение, неизменной останется сердечная маята в поисках ответов на Вечные вопросы. Примечания iphras.ru Екклесиаст, то есть сын Давида, мудрый Соломон (Еккл 1:1), начинает свое повествование словами: "Суета сует, сказал Екклесиаст, суета сует, — все суета!" (Еккл.1:1,2). 1. Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот, все - суета и томление духа! 2. И удаляй печаль от сердца твоего, и уклоняй злое от тела твоего, потому что детство и юность - суета. 3. Если человек проживет и много лет, то пусть веселится он в продолжение всех их, и пусть помнит о днях темных, которых будет много: все, что будет, - суета! 4. И сказал я в сердце моем: `и меня постигнет та же участь, как и глупого: к чему же я сделался очень мудрым?' И сказал я в сердце моем, что и это - суета; 5. И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем; ибо все - суета и томление духа! 6. Ибо человеку, который добр пред лицем Его, Он дает мудрость и знание и радость; а грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму пред лицем Божиим. И это - суета и томление духа! 7. Потому что участь сынов человеческих и участь животных - участь одна: как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед скотом, потому что все - суета! 8. Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производят взаимную между людьми зависть. И это - суета и томление духа! 9. Человек одинокий, и другого нет; ни сына, ни брата нет у него; а всем трудам его нет конца, и глаз его не насыщается богатством. Для кого же я тружусь и лишаю душу мою блага?' И это - суета и недоброе дело! 10. Ибо во множестве сновидений, как и во множестве слов, - много суеты; но ты бойся Бога. *** Слово "суета" подразумевает все же, что можно суетиться и все же что-то приобрести в результате суеты. Однако более точно было бы перевести то, что имеет ввиду премудрый Соломон словом "тщета", то есть все попытки человека тщетны, вся жизнь человека тщетна.Какие именно поступки человека тщетны? Соломон начинает размышлять о смысле жизни: "Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот, все — суета и томление духа!" (Еккл 1:14). В книге Екклесиаст очень часто встречается фраза "под солнцем" в различных вариациях. Что значит "делается под солнцем"? Согласно контекста всей Книги Екклесиаст, дела "под солнцем", это дела совершаемые без Бога, то есть тщетные дела, которые не приближают человека к Спасению и последующей вечной жизни. Язычники почитали богом солнце, и Екклесиаст на протяжении всех своих размышлений сетует на языческий менталитет людей, которые не видят за ярким солнцем живого, славного, справедливого Бога. Соломон пытается сказать, что конечно, человек может жить как хочет, как будто есть только солнце, и нет справедливого Бога, но все это не так, Бог есть, и Он видит наши дела. В конце своих размышлений Соломон приходит к выводу что же, действительно, является полезным для человека и какие дела не являются суетой, точней тщетой: "Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека; ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или худо" (Еккл 12:13,14). Бог не запрещает нам радоваться жизни, и нам не стоит быть унылыми. Но в то же время, нам не стоит забывать о Боге, который предлагает нам истинную счастливую жизнь, которая по настоящему утолит жажду нашей души. *** Читайте также размышления о суете игумена Нектария (Морозова): Трудно назвать что-то настолько разрушительное для внутреннего мира христианина, как суета и то смятение, в которое, словно в какую-то страшную, гибельную воронку она то и дело нас вовлекает. Точнее, нет — не вовлекает, нет у нее такой силы и власти. Вовлекаемся мы сами, по вполне свободному, хотя и далеко не всегда по-настоящему осознанному выбору. Читать статью полностью>> pravlife.org Неделя 26 по Пятидесятнице.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
«В сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил?» (Лк.12.20), – так бесславно и горестно заканчивается жизнь человека. Так отчаянно и безнадёжно подводится итог всем трудам рук его, всем творческим начинаниям и порывам, всем заботам и попечениям. Так сбывается над нами давнее пророчество Проповедника: «И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их: и вот, всё – суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем!» (Еккл.2.11). И в самом деле, разве не горы мусора и отходов сделались итогом жизнедеятельности человека? Разве не скорбные кладбищенские поля, покрывающие лицо всей земли, стали печальным результатом его короткой жизни?
Вот опрокинутое ураганом дерево, которое некогда посадили заботливые человеческие руки. Вот обрывок газеты, над печатанием которой трудились десятки и сотни людей. А вот здесь давным-давно стоял дом, в котором жили, любили и умирали целые поколения, а теперь от него не осталось и следа. Всё, что когда-то радовало глаз, всё, согревало душу, – ныне прах и бессмыслица. А то, что ещё живо и действенно, «в сию ночь» отнимется у обладающего, чтобы назавтра исчезнуть, разрушиться, превратиться в груды развалин… Неужели и правда «всё – суета и томление духа»? Неужели и правда – всё напрасно?
Зачем же тогда человек рождается на свет Божий? Зачем и Бог, без Которого «ничто не начало быть, что начало быть» (Ин.1.3), воззвал тварь из небытия? Не лучше ли, как предлагают язычники, от такого бытия отказаться и сделать всё, чтобы исчезнуть и раствориться в бесконечном и бессмысленном времени?
«Так, – по словам одного литературного персонажа, – всех нас в трусов превращает мысль». Так вместо благодарности поселяется в нашей душе ропот и на жизнь нашу, и на Того, Кто её даровал, – на Самого Бога. Так среди осенней непогоды и мрака овладевают нами угрюмые и безнадёжные страсти – уныние и печаль, которые святые отцы почитали такими же тяжкими, как блуд и гнев.
Но приходит час, и среди непогоды, мрака и бессмыслицы, как луч солнца, просияет человеку дивный дар Божий – дар веры. И тогда, как бы тяжела, как бы скорбна ни была наша жизнь, верующий, то есть переживающий, по слову апостола, «уверенность в невидимом» (Евр.11.1), узнаёт наверняка, что жизнь – имеет смысл, что бытие наше – не безумная и бессмысленная игра случая, а удивительный и радостный дар Божий. Потому что что такое Благодать Божия, как не радость, всегда – незаслуженная, нечаянная, радость обретения настоящего, истинного, а не иллюзорного смысла существования.
Ещё вчера я радовался новым амбарам, ещё вчера я полагал, что изобилие даров земных делает меня по-настоящему счастливым, и счастливым настолько, что, приплясывая и прихлопывая в ладоши, я приговаривал, как тот богач: «душа! много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись» (Лк.12.19). Можно подумать, что душе ничего, кроме огурцов и капусты, не нужно!
Рано или поздно человек догадывается об этом. Рано или поздно звучит в его душе голос Божий, ставящий перед ним роковой вопрос: «безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил?» (Лк.12.20). И вот тогда человек начинает говорить словами, произнесёнными за тысячелетия до него: «И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их: и вот, всё – суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем!» (Еккл.2.11). И вот тогда поселяются в душе человека уныние и тоска, столь любимые диаволом орудия нашей погибели.
Но «Бог ли не защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их?» (Лк.18.7). Там, где «умножился грех, стала преизобиловать благодать» (Рим.5.20), и тому, кто говорил о себе: «мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый доныне» (1.Кор.4.13), открывается вдруг, что на самом деле мы – не сироты, что у нас есть любящий Отец, что мир стоит до сей поры не физическими законами, а Его Любовью, а потому и смысл жизни нашей – не в стяжании бренного «добра», а в искании Вечной Истины, Нетленной Красоты, Божьей Правды.
Искателю Истины рано или поздно открывается то, что сказал о Себе Сын Человеческий: «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин.14.6). Это открывается всякому ищущему благодатным даром веры, и когда это происходит, человек забывает и о старых, и о новых амбарах и житницах, дабы заботиться о единственно ценном сокровище, подаренном ему Богом, – о бессмертной душе своей, потому что «какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст человек за душу свою?» (Мф.16.26). Нет ничего важнее и достойнее этой вечной ценности, ради спасения которой Сын Человеческий восшёл на Крест, поэтому не станем заниматься бессмысленным и тяжёлым делом собирания «сокровища для себя» (Лк.12.21), а лучше станем, обнищав духовно, «богатеть в Бога», как и просит нас сегодня об этом Христос. Аминь.
30 ноября 2003 г.
www.hram.infoМихалина Шибаева. «Томление духа» в менталитете этноса. Томление духа
Азбука Спасения - Томление

Всё — суета и томление духа!
И это — также суета и томление духа!
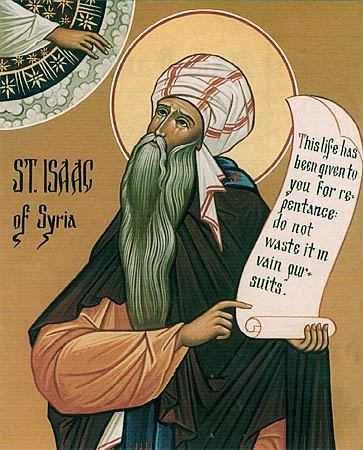
Томление души

Одна только тягота и великое томление души

Диавол есть вечное беспокойство и томление
О аде

Мучение совести и томление духа...
ТОМЛЕНИЕ ДУХА. Избранные богословские статьи
«Все суета сует и томление духа» = «Все только отраженный свет, только он!»
«Томление духа» в истории человечества. О Жизни Преизбыточествующей
Михалина Шибаева. «Томление духа» в менталитете этноса
Книга Екклесиаста | Православная Жизнь
10 ЦИТАТ: Книга Екклесиаста, или Проповедника
Проповедь "СУЕТА И ТОМЛЕНИЕ ДУХА…" - Священник Сергий Ганьковский
Смотрите также










