«Рождение трагедии из духа музыки» — самая известная и переводимая книга Ницше. Несложно понять, почему. Можно сказать, что это наиболее доступная книга Ницше, хотя первое впечатление обманчиво. Эта книга, что удивительно для Ницше, наиболее систематична, насколько вообще можно говорить о систематике в связи с ним. Она, во всяком случае, последовательна: там есть главы, которые определенным образом расположены, их пронизывает некий порядок. Можно читать все это с самого начала и до самого конца, удерживая некую нить, в отличие от афористического письма, которое воспринимается принципиально асистематично. «Как известно, надо преодолеть в себе человека. А какого человека надо преодолеть? Того самого, который появляется вместе с Сократом и Еврипидом — человека александрийской культуры, научного оптимиста. Преодолеть надо человека массы». Многие исследователи отмечают эту книгу как одну из важнейших. Да, Ницше будет чуть ли не отрекаться от нее в итоге, будет говорить, что это слабая и «кентаврическая» книга — потому что она якобы состоит из разрозненных вещей. Ницше будет считать, что в этой книге слишком много лишнего. А что лишнее там может быть? Шопенгауэр, разумеется, и Вагнер — вот лишнее. А этих господ там действительно очень много. Книга была написана тогда, когда Ницше находился под влиянием Шопенгауэра. Тогда же он активно общается с Вагнером, и это вагнерианская книга, она защищает и восхваляет его. И сам Вагнер, как один из самых последовательных эгоистов, очень любил эту книгу. И поклонники композитора ее тоже любили. Позже Ницше напишет новое предисловие к этой книге, которое называлось «Опыт самокритики» — предисловие к переизданию книги 1886 года. Здесь Ницше пишет, что в книге были поставлены верные проблемы, но они получили неверное развитие, потому что шопенгауэровские и вагнерианские оптики, которыми он пользовался, полностью заслонили исходные проблемы. Книга получила популярность именно за то, что сам Ницше в ней больше всего презирал. А первое издание 1872 года включало в себя предисловие о Рихарде Вагнере, где последний предстает как художник в высшем смысле, художник как таковой, трагический художник. Потом Ницше от таких заявлений отказывается. Крупный исследователь Фридрих Георг Юнгер (младший брат Эрнста Юнгера) в своей книге «Ницше» пишет, что «Рождение трагедии» — одна из главных книг Ницше, он ставит ее в один ряд с «Заратустрой» и «Волей к власти». Напомню, что книги «Воля к власти» фактически не было у Ницше (эта работа создана его сестрой после его смерти). Юнгер этого не знал, так как его книга о философе вышла в 1949 году, еще до критического издания Колли и Мортинари, которые доказали, что «Воля к власти» написана не Ницше. «Дионис — божество изначальной воли и жизни, которая не знает определенности и индивидуации. Аполлон же делает все ограниченным, оформленным, выделяет индивида из какого-то общего потока. Все состояния, которые мы можем условно обозначить как дионисийские, — это экстатические состояния. В контексте дионисийского праздника мы не можем говорить о личностях, об отдельных существах, которые принимают участие в этом празднике, речь идет о единой бесформенной массе опьяненных экстатических тел». Ключевая мысль книги «Рождение трагедии» — это противоположность аполлонического и дионисийского начал. После Ницше говорить о Древней Греции без этих терминов уже сложно. Что касается дионисийского начала, то оно очень важно для всего генезиса философии Ницше. И далее Ницше будет все воспринимать через призму Диониса. Он будет оценивать явления и ценности по степени их приближения к Дионису, удаления от Диониса, то есть это будет такая универсальная мера Ницше, мера ценностей и мера явлений, от которой он уже не избавится. Дионис будет с ним всегда. Даже другие фигуры, маски, которыми Ницше будет пользоваться, будут так или иначе связываться с Дионисом. Он будет говорить о Христе, но Христос у него обладает дионисийскими признаками. Он будет говорить о великих трагических героях, и они все будут носить маску Диониса. Сам Ницше будет Дионисом, захочет им быть, будет подписываться в письмах — «Дионис». И сверхчеловек — это тоже дионисийский человек. Итак, у нас появились два термина — дионисийское и аполлоническое, противоположность Аполлона и Диониса. Вспомним, кто такой Аполлон, кто такой Дионис. Кто такой Аполлон? Имя его переводится как «блестающий», то есть здесь сразу выделяется световая метафорика. Он освещает, он высвечивает, определяет границы. Аполлон — это божество границы, меры, формы. Все, что ограничено, оформлено, имеет свою меру. Именно поэтому Аполлона связывают с возникновением государственности, закона. Везде, где речь идет о возникновении закона, речь идет и об Аполлоне: законы Ликурга — чисто аполлоническое начинание. То же касается и порядка ведения войны. Аполлон четко разделяет древнюю, хтоническую войну, которая движима инстинктами кровной мести, и войну по каким-то правилам, войну как-то ограниченную, упорядоченную. Главное для нас — это порядок. Аполлон связывает собой множество порядков: правопорядок, государственный порядок, порядок ведения войны, а также музыкальный порядок. Мы помним, что Аполлон также отвечает за музыку. Была такая легенда, по которой сатир Марсий, спутник Диониса, вызвал Аполлона на состязание по игре на флейте. Он проиграл богу, но проигрыша Аполлону оказалось мало, и он наказал Марсия за дерзость, дерзость бросать вызов самому богу, и разорвал его на части. Вполне дионисийская смерть. Итак, порядок, форма, граница, предел. Дионис являет полную противоположность Аполлону. Он преодолевает любой порядок и всяческую форму. Дионис — это неоформленное, хаотическое. Если упорядоченность предстает как линейное время, то Дионис преодолевает время. Существо, захваченное Дионисом, пребывает вне времени. Уже нет прошлого, нет будущего, а значит и о настоящем говорить не приходится. Дионис — божество изначальной воли, изначальной жизни, которая не знает определенности, которая не знает индивидуации. По Ницше, принцип аполлонического — это принцип индивидуации, principium individuationis. Аполлон делает индивидуальным, то есть ограниченным, оформленным, выделяет индивида из какого-то общего потока. А сила Диониса направлена в обратную сторону, она снимает индивидуальность, преодолевает ее. Поэтому неудивительно, что все состояния, которые мы можем условно обозначить как дионисийские, это экстатические состояния. Экстазис — выход из своих границ. Чаще всего это опьянение. Об этом говорит и Ницше, он связывает с дионисийским буйством именно опьянение. Но опьянение в каком-то расширенном смысле, вовсе не обязательно алкогольное опьянение, хотя и оно тоже. Танец, сексуальный акт, мистерия (мистериальное действо, мистериальный праздник) — это все экстатические состояния, во время которых нарушается принцип индивидуации. К примеру, в контексте дионисийского праздника мы уже не можем говорить о каких-то личностях, о каких-то отдельных существах, которые принимают участие в этом празднике. То есть это единая бесформенная масса опьяненных экстатических тел. Дионис — это вечный праздник, за ним следует его свита, менады, которые пребывают в бешенстве. И еще об опьянении. В оригинале у Ницше используется слово rausch. На английский порой переводится как intoxication, но это означает как раз алкогольное опьянение. Понимать же это слово необходимо в расширительном смысле. Что касается алкоголя, то в «Утренней заре» (и не только) Ницше будет критиковать повсеместный немецкий алкоголизм. Что делает человек, когда он бросается в пучину такого низменного алкогольного опьянения? Он бежит от жизни, не хочет ее принимать, он хочет забыть жизнь и забыть себя. Но дионисийское опьянение направлено как раз на то, чтобы сказать жизни «да», это утверждающая сила. Поэтому к алкоголю все это сводить не стоит, и лучше говорить об экстатике, об экстатических состояниях. . Мы выяснили, что и Аполлон музыкален, но Дионис музыкален в каком-то, скорее, шопенгауэровском смысле. Мы помним, что у Шопенгауэра воля, которая похожа на кантовскую вещь в себе, являет себя через тело и музыку. Музыка — это высшее искусство, которое и есть сама воля. Не выражение воли какими-то средствами, как это происходит в других искусствах, а сама воля. Дионисийская музыка — это и есть музыка воли. Аполлон — это музыка ритмизованная, ограниченная, оформленная, это уже план выражения. Но важно заметить, что музыка имеет место в обоих случаях. «Почему Эсхил — самый великий трагик? Потому что у него трагедия страдающего Бога носила активный и утверждающий характер. Прометей страдает от того, что совершил святотатство. Совершил его, сам того захотев. Это его волеизъявление, утверждение воли. Прометей — не пассивный, но активный герой, он страдает за свою активность, за свое утверждение. А у того же Софокла ситуация меняется: Эдип — это уже пассивный герой, жертва обстоятельств. Что с ним происходит? Эдип пассивно претерпевает свою судьбу». Генезис античной трагедии Ницше связывает именно с духом музыки, что видно по названию книги. И это, пожалуй, одна из самых непрочных идей данного произведения. Действительно, сложно вывести генезис трагедии именно из музыки. Скорее, он все-таки выводится из эпоса. А эпос, соответственно, из мифа. Получается единое движение: миф, эпос, трагедия. Ницше апеллирует здесь к особенностям древнегреческого языка, который крайне фонетичен. Древние греки не говорили так, как говорим мы с вами, они скорее пели. Это музыка, мелодика на уровне языка. Таким образом, Ницше сводит слово в древнегреческом языке к его звучанию. Можно ли так делать? Лишь отчасти. Вот за такие фактические натяжки книга «Рождение трагедии» и подверглась жесткой критике. Здесь Ницше как строгий ученый, как филолог-классик, прямо скажем, провалился. И после этой книги седовласые профессора в университетах говорили своим студентам, что такие работы читать не надо. Это все что угодно, только не наука. Но это действительно не наука, не филологическая работа. Это уже философия. Итак, из этих начал — аполлонического и дионисийского — Ницше выводит искусство вообще. Каким образом? Самые близкие к искусству явления — это сновидение и опьянение. Что такое сновидение? Это мир чистой образности, мир форм. Образы и формы — вот то, что приходит к нам во сне. Это аполлоническая сфера. С другой стороны — опьянение, где все эти формы смешиваются, где уже нет пределов, где все преодолевается. И даже через примитивную метафору алкогольного опьянения мы легко можем проследить, как преодолевается время, преодолевается сам человек, вплоть до полного безумия, мертвого сна. Искусство рождается из сновидения и опьянения, из этих двух форм. И именно в греческой трагедии, в аттической трагедии, в великой трагедии Эсхила и в меньшей степени Софокла, эти противоположности находятся в наибольшей гармонии. Ничто тут не перевешивает. Это совершенно идеальный мир искусства, где через чистую аполлоническую образность выражается хаотическая дионисийская воля. Это самый великий этап в истории искусства вообще (в глазах Ницше, разумеется). До аттической трагедии аполлоническое и дионисийское находились в разрозненном состоянии. В частности, явный перевес аполлонического имел место в эпосе, в первую очередь у Гомера. Перевес дионисийского Ницше находит в первую очередь в древнегреческой лирике. Здесь он особо выделяет Архилоха, который привнес в лирику народные мотивы, мотивы народной песни. Это очень мелодичная, очень музыкальная поэзия. Народное, праздничное, хаотическое, хтоническое — все это связано с Дионисом. Аттическая трагедия — идеальное слияние этих двух элементов. Высшая точка этого слияния — это творчество Эсхила. И Прометей здесь — это очередная маска Диониса. Кто такой страдающий бог? Это Дионис. Собственно, изначально вся и всякая трагедия, по Ницше, была посвящена этой картине страдающего Диониса. Был только такой сюжет. В то же время был только хор, который исполнял дифирамбы — гимны Дионису, страдающему богу. В дальнейшем эта единственная тема начинает развиваться, варьироваться, появляются новые маски и другие герои. После Прометея Эсхила у Софокла появляется Эдип — тоже страдающий герой. Почему Эсхил — самый великий трагик? Потому что у него трагедия страдающего Бога носила активный и утверждающий характер. Прометей страдает от того, что совершил святотатство. Совершил его, сам того захотев. Это его волеизъявление, утверждение воли. Прометей — не пассивный, но активный герой, он страдает за свою активность, за свое утверждение. А у того же Софокла ситуация меняется: Эдип — это уже пассивный герой, жертва обстоятельств. Что с ним происходит? Эдип пассивно претерпевает свою судьбу. Очевидно, это уже отход от идеала утверждения. Поэтому Софокл в меньшей степени великий трагик, нежели Эсхил. С Софокла начинается постепенная деградация великой трагедии. Отсюда может и не один, но два-три шага до Еврипида, одного из главных антигероев концепции Ницше. Сам Софокл говорил об Эсхиле: он делает прекрасные трагедии, но он делает их прекрасными бессознательно. Он не знает, как они выходят такими прекрасными. А я, Софокл, делаю также прекрасные трагедии, но я делаю их абсолютно сознательно. Я знаю, почему они прекрасны, я знаю, как сделать трагедию прекрасной. Что здесь происходит? Рассудок стучится в нашу дверь. Появляется какой-то зачаток эстетической теории. Софокл, в отличие от Эсхила, начинает уже обдумывать свои трагедии. Эсхил же был художником чистой воли, он не обдумывал, не рассуждал. Итак, рождается трагедия из духа музыки, пик ее развития — это Эсхил, а далее начинается упадок и смерть трагедии. И смерть эта связана с фигурой Еврипида. Этот классик уже не понимал ни Эсхила, ни Софокла. Не понимал именно потому, что у последних в различной степени присутствовал дионисийский элемент. А понимать Еврипиду было нужно, потому что он — рассудочный человек. Предшественники Еврипида ему неясны, а потому и невыносимы. Все должно быть ясно, и трагедия должна быть ясной — вот посыл Еврипида. И действительно, творчество Еврипида — это очень ясные трагедии, в них понятны мотивы героев. В изначальной трагедии, где был только хор, в собственном смысле не было и зрителя — все сливались воедино в этом дифирамбическом дионисийском празднике. А что делает Еврипид? Он вводит в трагедию зрителя. Причем кто это такой? Это самый простой, обычный грек с самыми простыми, обычными рассудочными и эмоциональными проблемами. И все это не просто уселось в амфитеатре, но вылезло на сцену, заменило собой страдающего бога. Ницше примерно так и пишет: вчера был Дионис, а сегодня — мещанская посредственность. «Сократический человек — человек рассудка, человек знания. Сократ ходит по полису, по агоре и выведывают у людей, что же они знают. Оказывается, что они не знают ничего. Сократ спрашивает у поэтов и художников: «Что вы делаете? Кто такой поэт? Кто такой художник?» Что они могут ему ответить? Вдохновение, музы, бессознательное, боги… Никакого рассудка». Творя рассудочно, Еврипид как поэт полностью подчинен Еврипиду как мыслителю — сознательному и рассудочному человеку. Этот рассудочный Еврипид и этот рассудочный зритель — они прекрасно понимают друг друга, они одно. Праздник, опьянение, утверждение жизни — все это находится вне них. Еврипид здесь, конечно, страшный злодей, однако не главный злодей. Еврипид оказывается фигурой подчиненной, и подчинен он уже главному злодею, главному антигерою книги. Сократ — это абсолютный злодей. Почему так получилось? Сократ не любил трагедию, кроме трагедий Еврипида. Вообще не любил искусство, как мы знаем уже по Платону. Любил он только одну форму искусства — эзоповские басни. Видимо, опять же за рассудок и за мораль, нравоучение. И тем не менее Ницше говорит о какой-то сократической эстетике, которая приходит вместо умирающей трагедии. Первый принцип этой эстетики звучит так: то, что прекрасно, должно быть понятно. Или: только понятное может быть прекрасным. Очевидно, Ницше развивает знаменитый тезис Сократа, который звучит так: только знающий добродетелен. Добродетель и благо Сократ полностью выводит из знания, из рассудка. Это положение Ницше распространяет на эстетику, под которую подпадает и трагедия Еврипида. Вспомним знаменитую легенду, согласно которой оракул назвал самым мудрым эллином Сократа, а вторым по мудрости — Еврипида. Третьим, кстати, оказался Софокл — тоже неспроста. Сократический человек — человек рассудка, человек знания. Сократ ходит по полису, по агоре и выведывают у людей, что же они знают. Оказывается, что они не знают ничего. А раз они ничего не знают, как они могут вообще чем-то заниматься? Сократ спрашивает у поэтов и художников: «Что вы делаете? Кто такой поэт? Кто такой художник?» Что они могут ему ответить? Вдохновение, музы, бессознательное, боги… Никакого рассудка, знания в этом нет. Такие поэты нам не нужны, как скажет уже Платон в своем «Государстве». Изгнание поэтов и художников начинается с блужданий Сократа по агоре. Ведь и Платон по молодости имел тот грех, что сочинял трагедии. Потом он встретился с Сократом и быстро прекратил это занятие. Художник в нем закончился, когда он встретил Сократа. Так и по Ницше: если ты встречаешься с Сократом, если ты у него учишься, то ты уже не художник. Повторим, появляется новый тип человека — сократический человек, или теоретический человек. И это, если говорить о древнегреческой культуре, последний тип — дальше уже не будет возникать новых типов. Дальше пойдет сплошная масса. Когда заканчивается образование типов, начинается господство массы. Собственно, Сократ и Еврипид этому способствуют. И трагедия, о которой идет речь, меняется практически до неузнаваемости. Хор остается, но остается скорее в качестве декорации или дани прошлому, он необязателен, неважен. Хор не выражает того, что он выражал когда-то — праздника и дионисийства. Хор уходит в тень, а это значит, что сама музыка уходит в подчиненное положение. Трагедия рождается из духа музыки, и если уходит музыка, то уходит и сама трагедия. И после трагедий Еврипида появляется так называемая новая аттическая комедия со всеми этими рассудочными мещанами в качестве героев, с прологом, с четкой структурой. Более того, все прочее искусство после Античности Ницше связывает с этим изначальным еврипидовским импульсом. Даже Шекспир наследует Еврипиду, а не Эсхилу. Дионисийства в нем нет. Между прочим, и аполлоническое уходит, ведь оно не есть торжество рациональности. Что же остается? Остается сократическое. Поэтому здесь лучше говорить о новой дихотомии: дионисийское и противостоящее ему сократическое. Сократическое в итоге побеждает и изгоняет дионисийское. «Музы, вдохновение, нашептывающий Бог — это все инстинкт, противоположный рассудку. Как только приходит сократический человек, как только воцаряется рациональность, инстинкт ослабляется и уходит. Вот и шопенгауэровский пессимизм — это подобное вырождение инстинкта, отрицание жизни. И именно поэтому здесь звучит некая христианская нота». Надо отметить, что в «Рождении трагедии» Ницше настроен еще довольно оптимистически. Он считает, что прямо сейчас, то есть в его время, дионисийское начало после многих веков гнета вновь возвращается в искусство. Возвращается оно в качестве немецкой музыки (тогда еще слово «немецкий» для Ницше не было ругательством). Немецкая музыка — это Бах, Бетховен и Вагнер (тогда еще слово «Вагнер» для Ницше не было ругательством). И Вагнер — это великий художник, в лице которого здесь и сейчас возрождается великая аттическая трагедия. Действительно, раннего вагнеровского «Тристана» Ницше очень любил и возлагал на него большие надежды. Даже потом, когда Ницше ругал Вагнера, он не отказывался от «Тристана». Он считал эту вещь легкой, жизнеутверждающей, прекрасной. А далее появляется «Парсифаль», это 1878 год. Тогда происходит следующая история: Ницше заканчивает «Человеческое, слишком человеческое», а Вагнер в тот же момент — текст к «Парсифалю». Не сговариваясь, они посылают друг другу свои новые детища. Потом Ницше напишет: так мы скрестили шпаги. Это была борьба — тексты действительно отрицали друг друга. В «Человеческом, слишком человеческом» Ницше окончательно отходит от Шопенгауэра и Вагнера, а Вагнер в «Парсифале» становится всем тем, что Ницше ненавистно: «немцем», и более того, христианином. Вагнер начинает говорить о спасении, постоянно хочет кого-то спасти, все его герои спасают друг друга. Все полностью пронизано христианством. Так зачем же ваше спасение? Где трагедия? В трагедии никто никого не спасает. В трагедии страдают, а в настоящей трагедии этому страданию говорят громкое «Да». Вернемся к оптимизму 1872 года. Ницше наблюдает возвращение трагедии не только в искусстве , но и в философии. Он пишет, что вдруг появляются «дионисийские мудрецы» — Кант и Шопенгауэр. Видимо, это был весьма опьяненный оптимизм, раз Ницше Канта называет дионисийским. Хотя очевидно, что приняв Шопенгауэра (как это и было в тот период), Ницше должен был принять и Канта. И в том же самом «Человеческом, слишком человеческом» Кант с Шопенгауэром дружно покидают ницшевский пантеон. Что же стало с надеждой на возрождение трагедии в этот период? Трудно сказать. Пожалуй, возрождение дионисийского начала Ницше тогда связывал уже только с самим собой. Хвалил разве что оперу «Кармен», и то лишь как некий контраргумент позднему Вагнеру. Вернемся к смерти трагедии. Новый сократический, теоретический человек полностью детерминируют развитие европейской культуры. Ницше различает два вида культур: эллинская культура, то есть трагическая и дионисийская культура, и александрийская культура, которая наследует Сократу, культура рассудка и научного знания. И с тех пор Европа пребывает в лоне александрийской культуры, а эллинская культура отмирает, остается только в качестве каких-то памятников. Главный инструмент и метод сократического человека, а вместе с тем и александрийской культуры — это разработанная Платоном диалектика. Диалектика, по Ницше, это метод научного оптимиста. Ее предпосылки таковы: мир полностью познаваем, более того, познавая мир, мы можем его менять. Как же это далеко от трагического человека. Трагический человек не меняет, не познает. Он не оптимист, ведь он страдает и испытывает какую-то невероятную боль. Но при всем при этом, а лучше сказать — вопреки этому, он утверждает жизнь, говорит ей «Да». Таков Прометей. Это ведь и не человек. Человека, как известно, надо преодолеть. А какого человека надо преодолеть? Того самого, который появляется вместе с Сократом и Еврипидом — человека александрийской культуры, научного оптимиста. Преодолеть надо человека массы. Такого человека создает именно Сократ. В отличие от досократиков, которые грезили о космосе, о стихиях, об огне, Сократ спускается на Землю и находит там своего человека. Именно этого человека и необходимо преодолеть на пути к сверхчеловеку. А трагический человек по необходимости принимает жизнь такой, какая она есть, со всем страданием, со всей болью. Здесь мы видим принципиальное расхождение Ницше с Шопенгауэром. Это расхождение — в выводах. Шопенгауэр нащупывает ту же самую трагическую жилку, он открывает страдание, он открывает боль, и это его отталкивает. От чего отталкивает? От жизни. Тот факт, что в этой жизни (а никакой другой жизни нет, только эта) наличествуют страдание и боль, говорит против этой жизни. Страдание и боль — сами по себе обвинения жизни. Жизнь в страданиях и боли не стоит того, чтобы ее прожить. Вот он, знаменитый шопенгауэровский пессимизм. От этой жизни надо как-то уходить. Вот тут у Шопенгауэра, а позже и у Ницше, появляется та знаменитая присказка, в которой ловят Силена и спрашивают у него: «Что самое лучшее для человека?» На что Силен отвечает, рассмеявшись, что лучшее для человека — это вообще не родиться, а если уж родился, то лучше всего поскорее умереть. Вот он, пессимизм. «“Илиада”, пронизанная совершенно непонятной нам жестокостью, может пугать и отталкивать. Почему? Потому что там и в помине нет нашей морали. Определенная мораль есть, но другая, аристократическая. Вот он — идеал раздора и соревнования. Греция столь велика именно потому, что она пронизана соревнованием. Все постоянно пытались прыгнуть выше головы своего соседа». Шопенгауэр стремится от этого убежать. Слова Силена заставляют бежать от жизни, отрицать жизнь. А куда от нее бежать (если не в смерть)? Помочь может искусство, оно притупляет боль и страдание, потому что оно освобождает от детерминизма, от времени. Когда мы находимся внутри эстетического переживания, для нас не существует привычного линейного времени. В искусстве человек преодолевает диктат воли, он освобождается. Но только на мгновение, не навсегда. Время возвращается, а с ним возвращаются страдание и боль. Искусство может избавить от них, но ненадолго. Тогда Шопенгауэр начинает искать другие пути. И находит путь аскезы, обращаясь к восточной философии, с которой был хорошо знаком, читал «Упанишады» и так далее. Аскеза — это и есть отрешение от всего, полное подавление страстей, воли. Мы можем подавить волю, только уходя от жизни. Выводы Ницше совершенно противоположны. Аскетический идеал для него — это вырождение, в первую очередь вырождение сильного аристократического типа. Это вырождение инстинкта, как и сократизм. Вспомним поэтов. Они не знают, как они творят, потому что они творят по инстинкту. Музы, вдохновение, нашептывающий Бог — это все инстинкт, противоположный рассудку. Как только приходит сократический человек, как только воцаряется рациональность, инстинкт ослабляется и уходит. Вот и шопенгауэровский пессимизм — это подобное вырождение инстинкта, отрицание жизни. И именно поэтому здесь звучит некая христианская нота. По-настоящему трагический человек — это тот, кто вопреки страданию и боли говорит жизни «да». И только в таком парадоксальном состоянии он доходит до дионисийских высот. Мы видим теперь, что пессимизм бывает разный. Сам Ницше это называл романтическим и трагическим пессимизмом. Романтический пессимизм Шопенгауэра — это отрицание воли, упадок сил, вырождение инстинкта. Трагический, эллинский пессимизм Ницше — это утверждение. При этом он все же остается пессимизмом, ведь эллин прекрасно понимает (возможно, понимает лучше всех), что жизнь это боль и страдание. Но при всем при этом эллин находит в себе силы принять жизнь. Мало того, эллин набирается смелости еще и смеяться, танцевать, и опьяняться. Трагический пессимизм — это дионисийство. Читайте в библиотеке Bookmate Артур Шопенгауэр, «Мир как воля и представление» Фридрих Ницше, «Человеческое, слишком человеческое» Фридрих Ницше, «Рождение трагедии» Что же получается? Та великая Греция, которую мы знаем и любим, Греция Сократа, Платона, Аристотеля, зарождения наук — эта Греция у Ницше оказывается ненастоящей, упадочной. Что же такое настоящая Греция? Несложно понять, что это Греция досократическая, Греция великой аттической трагедии, Греция агона. Это Эсхил — величайший трагик, это Гераклит — величайший философ, ближайший к мысли Ницше из всех греков. Это Греция совершенно иной, нам уже непонятной аристократической этики, соревнования и войны, жестокая и страшная Греция. Такая Греция воплощает собой аристократический идеал для Ницше. Когда речь идет об аристократическом идеале, в первую очередь необходимо вспоминать Грецию телесную, природную, Грецию до всякого гуманизма. «Илиада», пронизанная совершенно непонятной нам жестокостью, может пугать и отталкивать. Почему? Потому что там и в помине нет нашей морали. Определенная мораль есть, но другая, аристократическая. Вот он — идеал раздора и соревнования. Греция столь велика именно потому, что она пронизана соревнованием. Все постоянно пытались прыгнуть выше головы своего соседа. Поэты не просто писали стихи, они соревновались друг с другом, выходили на поэтические состязания. Соревновались и политики. Фемистокл был столь велик именно потому, что ему спать не давала слава Мильтиада. Эта великая Греция построена на таких добродетелях, которых мы уже не понимаем. Более того, мы вообще не принимаем их за добродетели. Ведь для нас добродетель — это сострадание, смирение. Какой тут раздор? Уже у Сократа прежние добродетели перестают быть таковыми. Добродетель теперь — это исключительно знание. И сейчас мы восхищаемся другой Грецией, сократической. Юнгер в работе о Ницше отмечает, что еще в классицизме Греция понималась именно аполлонически — с точки зрения пластики, формы. Такова рецепция Винкельмана, Лессинга, а позже Гете и Шиллера. И действительно, классицизм — это торжество меры, торжество формы, нормы, то есть всего аполлонического. Но была и иная, противоположная рецепция Греции. Это Гельдерлин, еще один великий дионисийский безумец. И это, конечно, Ницше. Однако видно, что в нашей культуре превалирует именно аполлонический путь. Аполлоническая Греция нам ближе и понятнее. И Ницше выступал именно против такой односторонности, открывая иную, дионисийскую Грецию. Этот идеал дионисийской Греции невероятно важен для генезиса философии Ницше. Как бы он ни ругался и ни отказывался от своего дебютного труда, все, что он здесь открыл, он пронесет с собой до конца жизни. Он будет мыслить дионисийски, он будет все мерить меркой Диониса. И здесь же определяется главный враг философии Ницше — сократизм, рационализм и рассудочность. theoryandpractice.ru Было бы большим выигрышем для эстетической науки, если бы не только путём логического уразумения, но и путём непосредственной интуиции пришли к сознанию, что поступательное движение искусства связано с двойственностью аполлонического и дионисического начал, подобным же образом, как рождение стоит в зависимости от двойственности полов, при непрестанной борьбе и лишь периодически наступающем примирении. Названия эти мы заимствуем у греков, разъясняющих тому, кто в силах уразуметь, глубокомысленные эсотерические учения свои в области воззрений на искусство не с помощью понятий, но в резко отчётливых образах мира богов. С их двумя божествами искусств, Аполлоном и Дионисом, связано наше знание о той огромной противоположности в происхождении и целях, которую мы встречаем в греческом мире между искусством пластических образов — аполлоническим — и непластическим искусством музыки — искусством Диониса; эти два столь различных стремления действуют рядом одно с другим, чаще всего в открытом раздоре между собой и взаимно побуждая друг друга ко всё новым и более мощным порождениям, дабы в них увековечить борьбу названных противоположностей, только по-видимому соединённых общим словом «искусство»; пока наконец чудодейственным метафизическим актом эллинской «воли» они не явятся связанными в некоторую постоянную двойственность и в этой двойственности не создадут наконец столь же дионисического, сколь и аполлонического произведения искусства — аттической трагедии. Чтобы уяснить себе оба этих стремления, представим их сначала как разъединённые художественные миры сновидения и опьянения, между каковыми физиологическими явлениями подмечается противоположность, соответствующая противоположности аполлонического и дионисического начал. В сновидениях впервые предстали, по мнению Лукреция, душам людей чудные образы богов; во сне великий ваятель увидел чарующую соразмерность членов сверхчеловеческих существ; и эллинский поэт, спрошенный о тайне поэтических зачатий, также вспомнил бы о сне и дал бы поучение, сходное с тем, которое Ганс Сакс даёт в «Мейстерзингерах»: Мой друг, поэты рождены, Чтоб толковать свои же сны. Всё то, чем грезим мы в мечтах, Раскрыто перед нами в снах: И толк искуснейших стихов Лишь в толкованье вещих снов. Прекрасная иллюзия видений, в создании которых каждый человек является вполне художником, есть предпосылка всех пластических искусств, а также, как мы увидим, одна из важных сторон поэзии. Мы находим наслаждение в непосредственном уразумении такого образа; все формы говорят нам: нет ничего безразличного и ненужного. Но и при всей жизненности этой действительности снов у нас всё же остаётся ещё мерцающее ощущение её иллюзорности, но крайней мере таков мой опыт, распространённость и даже нормальность которого я мог бы подтвердить рядом свидетельств и показаний поэтов. Философски настроенный человек имеет даже предчувствие, что и под этой действительностью, в которой мы живём и существуем, лежит скрытая, вторая действительность, во всём отличная, и что, следовательно, и первая есть иллюзия; а Шопенгауэр прямо считает тот дар, по которому человеку и люди, и все вещи представляются временами только фантомами и грёзами, признаком философского дарования. Но как философ относится к действительности бытия, так художественно восприимчивый человек относится к действительности снов; он охотно и зорко всматривается в них: ибо по этим образам он толкует себе жизнь, на этих событиях готовится к жизни. И не одни только приятные, ласкающие образы являются ему в такой ясной простоте и понятности: всё строгое, смутное, печальное, мрачное, внезапные препятствия, насмешки случая, боязливые ожидания, короче, вся «божественная комедия» жизни, вместе с её Inferno, проходит перед ним, не только как игра теней — ибо он сам живёт и страдает как действующее лицо этих сцен, — но всё же не без упомянутого мимолетнего ощущения их иллюзорности; и быть может, многим, подобно мне, придёт на память, как они в опасностях и ужасах сна подчас не без успеха ободряли себя восклицанием: «Ведь это — сон! Что ж, буду грезить дальше!» Мне рассказывали также про лиц, могших продлевать один и тот же сон на три и более последовательные ночи, не нарушая его причинной связи, — факты, ясно свидетельствующие о том, что наша внутренняя сущность, общая основа бытия во всех нас, испытывает сон с глубоким наслаждением и радостной необходимостью. Эта радостная необходимость сонных видений также выражена греками в их Аполлоне; Аполлон, как бог всех сил, творящих образами, есть в то же время и бог, вещающий истину, возвещающий грядущее. Он, по корню своему «блещущий», божество света, царит и над иллюзорным блеском красоты во внутреннем мире фантазии. Высшая истинность, совершенство этих состояний в противоположность отрывочной и бессвязной действительности дня, затем глубокое сознание врачующей и вспомоществующей во сне и сновидениях природы, представляют в то же время символическую аналогию дара вещания и вообще искусств, делающих жизнь возможной и жизнедостойной. Но и та нежная черта, через которую сновидение не должно переступать, дабы избежать патологического воздействия — ибо тогда иллюзия обманула бы нас, приняв вид грубой действительности, — и эта черта необходимо должна присутствовать в образе Аполлона: как полное чувство меры, самоограничение, свобода от диких порывов, мудрый покой бога — творца образов. Его око, в соответствии с его происхождением, должно быть «солнечно»; даже когда он гневается и бросает недовольные взоры, благость прекрасного видения почиет на нём. И таким образом про Аполлона можно было бы сказать в эксцентрическом смысле то, что Шопенгауэр говорит про человека, объятого покрывалом Майи («Мир, как воля и представление» I 416): «Как среди бушующего моря, с рёвом вздымающего и опускающего в безбрежном своём просторе горы валов, сидит на челне пловец, доверяясь слабой ладье, — так среди мира мук спокойно пребывает отдельный человек, с доверием опираясь на principium individuationis». Про Аполлона можно было бы даже сказать, что в нём непоколебимое доверие к этому принципу и спокойная неподвижность охваченного им существа получили своё возвышеннейшее выражение, и Аполлона хотелось бы назвать великолепным божественным образом principii individuationis, в жестах и взорах которого с нами говорит вся великая радость и мудрость «иллюзии», вместе со всей её красотой. В приведённом месте Шопенгауэр описывает нам также тот чудовищный ужас, который охватывает человека, когда он внезапно усомнится в формах познавания явлений, и закон достаточного основания в одном из своих разветвлений окажется допускающим исключение. Если к этому ужасу прибавить блаженный восторг, поднимающийся из недр человека и даже природы, когда наступает такое же нарушение principii individuationis, то это даст нам понятие о сущности дионисического начала, более всего, пожалуй, нам доступного по аналогии опьянения. Либо под влиянием наркотического напитка, о котором говорят в своих гимнах все первобытные люди и народы, либо при могучем, радостно проникающем всю природу приближении весны просыпаются те дионисические чувствования, в подъёме коих субъективное исчезает до полного самозабвения. Ещё в немецком Средневековье, охваченные той же дионисической силой, носились всё возраставшие толпы, с пением и плясками, с места на место; в этих плясунах св. Иоанна и св. Витта мы узнаём вакхические хоры греков с их историческим прошлым в Малой Азии, восходящим до Вавилона и оргиастических сакеев. Бывают люди, которые от недостаточной опытности или вследствие своей тупости с насмешкой или с сожалением отворачиваются, в сознании собственного здоровья, от подобных явлений, считая их «народными болезнями»: бедные, они и не подозревают, какая мертвецкая бледность почиет на этом их «здоровье», как призрачно оно выглядит, когда мимо него вихрем проносится пламенная жизнь дионисических безумцев. Под чарами Диониса не только вновь смыкается союз человека с человеком: сама отчуждённая, враждебная или порабощённая природа снова празднует праздник примирения со своим блудным сыном — человеком. Добровольно предлагает земля свои дары, и мирно приближаются хищные звери скал и пустыни. Цветами и венками усыпана колесница Диониса; под ярмом его шествуют пантера и тигр. Превратите ликующую песню «К Радости» Бетховена в картину и если у вас достанет силы воображения, чтобы увидать «миллионы, трепетно склоняющиеся во прахе», то вы можете подойти к Дионису. Теперь раб — свободный человек, теперь разбиты все неподвижные и враждебные границы, установленные между людьми нуждой, произволом и «дерзкой модой». Теперь, при благой вести о гармонии миров, каждый чувствует себя не только соединённым, примирённым, сплочённым со своим ближним, но единым с ним, словно разорвано покрывало Майи и только клочья его ещё развеваются перед таинственным Первоединым. В пении и пляске являет себя человек сочленом более высокой общины: он разучился ходить и говорить и готов в пляске взлететь в воздушные выси. Его телодвижениями говорит колдовство. Как звери получили теперь дар слова и земля истекает молоком и мёдом, так и в человеке звучит нечто сверхприродное: он чувствует себя богом, он сам шествует теперь восторженный и возвышенный; такими он видел во сне шествовавших богов. Человек уже больше не художник: он сам стал художественным произведением; художественная мощь целой природы открывается здесь, в трепете опьянения, для высшего, блаженного самоудовлетворения Первоединого. Благороднейшая глина, драгоценнейший мрамор — человек здесь лепится и вырубается, и вместе с ударами резца дионисического миротворца звучит элевсинский мистический зов: «Вы повергаетесь ниц, миллионы? Мир, чуешь ли ты своего Творца?» — Мы рассматривали до сих пор аполлоническое начало и его противоположность — дионисическое как художественные силы, прорывающиеся из самой природы, без посредства художника-человека, и как силы, в коих художественные позывы этой природы получают ближайшим образом и прямым путём своё удовлетворение; это, с одной стороны, мир сонных грёз, совершенство которых не находится ни в какой зависимости от интеллектуального развития или художественного образования отдельного лица, а с другой стороны, действительность опьянения, которая также нимало не обращает внимания на отдельного человека, а скорее стремится уничтожить индивид и освободить его мистическим ощущением единства. Противопоставленный этим непосредственным художественным состояниям природы, каждый художник является только «подражателем», и притом либо аполлоническим художником сна, либо дионисическим художником опьянения, либо, наконец, — чему пример мы можем видеть в греческой трагедии — одновременно художником и опьянения и сна; этого последнего мы должны себе представить примерно так: в дионисическом опьянении и мистическом самоотчуждении, одинокий, где-нибудь в стороне от безумствующих и носящихся хоров, падает он, и вот аполлоническим воздействием сна ему открывается его собственное состояние, т. е. его единство с внутренней первоосновой мира в символическом подобии сновидения. После этих общих предпосылок и сопоставлений подойдём теперь поближе к грекам и посмотрим, в какой степени эти художественные инстинкты природы были у них развиты и какой высоты они достигли, чем мы и предоставим себе возможность глубже понять и оценить отношение греческого художника к своим прообразам, или, по аристотелевскому выражению, его «подражание природе». О снах греков, несмотря на их обширную литературу и анекдоты о снах, приходится говорить только предположительно, хотя и с довольно значительной степенью достоверности; при невероятной пластической точности и верности их взгляда и их искренней любви к светлым и смелым краскам, несомненно, придётся, к стыду всех рождённых после, предположить и в их снах логическую причинность линий и очертаний, красок и групп, сходную с их лучшими рельефами — смену сцен, совершенство коих, если вообще в данном случае уместно сравнение, дало бы нам, конечно, право назвать грезящего грека Гомером и Гомера грезящим греком; и это в более глубоком смысле, чем когда современный человек в отношении к своим снам осмеливается сравнивать себя с Шекспиром. Напротив того, нам не приходится опираться на одни предположения, когда мы имеем в виду показать ту огромную пропасть, которая отделяет дионисического грека от дионисического варвара. Во всех концах древнего мира — оставляя здесь в стороне новый, — от Рима до Вавилона — можем мы указать существование дионисических празднеств, тип которых в лучшем случае относится к типу греческих, как бородатый сатир, заимствовавший от козла своё имя и атрибуты, к самому Дионису. Почти везде центр этих празднеств лежал в неограниченной половой разнузданности, волны которой захлестывали каждый семейный очаг с его достопочтенными узаконениями; тут спускалось с цепи самое дикое зверство природы, вплоть до того отвратительного смешения сладострастия и жестокости, которое всегда представлялось мне подлинным «напитком ведьмы». От лихорадочных возбуждений этих празднеств, знание о которых проникало в Грецию по всем сухопутным и морским путям, греки были, по-видимому, некоторое время вполне защищены и охранены царившим здесь во всём своём гордом величии образом Аполлона, который не мог противопоставить голову Медузы более опасной силе, чем этот грубый, карикатурный дионисизм. Эта величественно отказчивая осанка Аполлона увековечена дорическим искусством. Сомнительным и даже невозможным стало названное противодействие, когда наконец подобные же стремления пробились из тех недр, где заложены были глубочайшие корни эллинской природы; теперь влияние дельфийского бога ограничивалось своевременным заключением мира, позволявшим вырвать из рук могучего противника его губительное оружие. Это перемирие представляет важнейший момент в истории греческого культа: куда ни взглянешь, всюду видны следы переворота, произведённого этим событием. То было перемирие двух противников с точным отграничением подлежавших им отныне сфер влияния и с периодической пересылкой почётных подарков; в сущности же через пропасть не было перекинуто моста. Но если теперь мы бросим взгляд на то, как под давлением этого мирного договора проявлялось дионисическое могущество, мы должны будем, по сравнению с упомянутыми вавилонскими сакеями и возвращением в них человека на ступень тигра и обезьяны, признать за дионисическими оргиями греков значение празднеств искупления мира и дней духовного просветления. У них впервые природа достигает своего художественного восторга, впервые у них разрушение principii individuationis становится художественным феноменом. Здесь бессилен отвратительный напиток ведьмы из сладострастия и жестокости: лишь странное смешение и двойственность аффектов у дионисических мечтателей напоминает о нём — как снадобья исцеления напоминают смертельные яды, — выражаясь в том явлении, что страдания вызывают радость, что восторг вырывает из души мучительные стоны. В высшей радости раздаётся крик ужаса или тоскливой жалобы о невознаградимой утрате. В этих греческих празднествах прорывается как бы сентиментальная черта природы, словно она вздыхает о своей раздробленности на индивиды. Пение и язык жестов у таких двойственно настроенных мечтателей были для гомеровско-греческого мира чем-то новым и неслыханным; в особенности возбуждала в нём страх и ужас дионисическая музыка. Если музыка отчасти и была уже знакома ему, как аполлоническое искусство, то, строго говоря, лишь как волнообразный удар ритма, пластическая сила которого была развита в применении к изображению аполлонических состояний. Музыка Аполлона была дорической архитектоникой в тонах, но в тонах, едва означенных, как они свойственны кифаре. Тщательно устранялся, как неаполлонический, тот элемент, который главным образом характерен для дионисической музыки, а вместе с тем и для музыки вообще, — потрясающее могущество тона, единообразный поток мелоса и ни с чем не сравнимый мир гармонии. Дионисический дифирамб побуждает человека к высшему подъёму всех его символических способностей; нечто ещё никогда не испытанное ищет своего выражения — уничтожение покрывала Майи, единобытие, как гений рода и даже самой природы. Существо природы должно найти себе теперь символическое выражение; необходим новый мир символов, телесная символика во всей её полноте, не только символика уст, лица, слова, но и совершенный, ритмизирующий все члены плясовой жест. Затем внезапно и порывисто растут другие символические силы, силы музыки, в ритмике, динамике и гармонии. Чтобы охватить это всеобщее освобождение от оков всех символических сил, человек должен был уже стоять на той высоте самоотчуждения, которая ищет своего символического выражения в указанных силах: дифирамбический служитель Диониса тем самым может быть понят лишь себе подобным! С каким изумлением должен был взирать на него аполлонический грек! С изумлением тем большим, что к нему примешивалось жуткое сознание, что всё это, в сущности, не так уж чуждо ему, что его аполлоническое сознание, пожалуй, лишь покрывало, скрывающее от него этот дионисический мир. Чтобы понять сказанное, нам придётся как бы снести камень за камнем всё это художественно возведённое здание аполлонической культуры, пока мы не увидим фундамента, на котором оно построено. Здесь, во-первых, нашему взгляду представятся чудные образы олимпийских богов, водружённые на фронтон этого здания, деяния коих, в сияющих издали рельефах, украшают его фризы. Если между ними мы усмотрим и Аполлона как отдельное божество, наряду с другими и не претендующее на первое место, то пусть это не вводит нас в заблуждение. Тот же инстинкт, который нашёл своё воплощение в Аполлоне, породил и весь этот олимпийский мир вообще, и в этом смысле Аполлон может для нас сойти за отца его. Какова же была та огромная потребность, из которой возникло столь блистательное собрание олимпийских существ? Тот, кто подходит к этим олимпийцам с другой религией в сердце и думает найти у них нравственную высоту, даже святость, бестелесное одухотворение, исполненные милосердия взоры, — тот неизбежно и скоро с недовольством и разочарованием отвернётся от них. Здесь ничто не напоминает об аскезе, духовности и долге; здесь всё говорит нам лишь о роскошном, даже торжествующем существовании, в котором всё наличное обожествляется, безотносительно к тому — добро оно или зло. И зритель, глубоко поражённый, остановится перед этим фантастическим преизбытком жизни и спросит себя: с каким же волшебным напитком в теле прожили, наслаждаясь жизнью, эти заносчивые люди, что им, куда они ни глянут, отовсюду улыбается облик Елены, как «в сладкой чувственности парящий» идеальный образ их собственного существования. Этому готовому уже отвернуться и отойти зрителю должны мы крикнуть, однако: «Не уходи, а послушай сначала, что народная мудрость греков вещает об этой самой жизни, которая здесь раскинулась перед тобой в такой необъяснимой ясности. Ходит стародавнее предание, что царь Мидас долгое время гонялся по лесам за мудрым Силеном, спутником Диониса, и не мог изловить его. Когда тот наконец попал к нему в руки, царь спросил, что для человека наилучшее и наипредпочтительнейшее. Упорно и недвижно молчал демон; наконец, принуждаемый царём, он с раскатистым хохотом разразился такими словами: «Злополучный однодневный род, дети случая и нужды, зачем вынуждаешь ты меня сказать тебе то, чего полезнее было бы тебе не слышать? Наилучшее для тебя вполне недостижимо: не родиться, не быть вовсе, быть ничем. А второе по достоинству для тебя — скоро умереть». Как относится к этой народной мудрости олимпийский мир богов? Как исполненное восторгов видение истязуемого мученика к его пытке. Теперь перед нами как бы расступается олимпийская волшебная гора и показывает нам свои корни. Грек знал и ощущал страхи и ужасы существования: чтобы иметь вообще возможность жить, он вынужден был заслонить себя от них блестящим порождением грёз — олимпийцами. Необычайное недоверие к титаническим силам природы, безжалостно царящая над всем познанным Мойра, коршун великого друга людей — Прометея, ужасающая судьба мудрого Эдипа, проклятие, тяготевшее над родом Атридов и принудившее Ореста к матереубийству, короче — вся эта философия лесного бога, со всеми её мифическими примерами, от которой погибли меланхолические этруски, — непрестанно всё снова и снова преодолевалась греками при посредстве того художественного междумирия олимпийцев или во всяком случае прикрывалась им и скрывалась от взоров. Чтобы иметь возможность жить, греки должны были, по глубочайшей необходимости, создать этих богов; это событие мы должны представлять себе приблизительно так: из первобытного титанического порядка богов ужаса через посредство указанного аполлонического инстинкта красоты путём медленных переходов развился олимпийский порядок богов радости; так розы пробиваются из тернистой чащи кустов. Как мог бы иначе такой болезненно чувствительный, такой неистовый в своих желаниях, такой из ряда вон склонный к страданию народ вынести существование, если бы оно не было представлено ему в его богах озарённым в столь ослепительном ореоле. Тот же инстинкт, который вызывает к жизни искусство, как дополнение и завершение бытия, соблазняющее на дальнейшую жизнь, — создал и олимпийский мир, как преображающее зеркало, поставленное перед собой эллинской «волей». Так боги оправдывают человеческую жизнь, сами живя этой жизнью, — единственная удовлетворительная теодицея! Существование под яркими солнечными лучами таких богов ощущается как нечто само по себе достойное стремления, и действительное страдание гомеровского человека связано с уходом от жизни, прежде всего со скорым уходом; так что теперь можно было бы сказать об этом человеке обратное изречению силеновской мудрости: «Наихудшее для него — скоро умереть, второе по тяжести — быть вообще подверженным смерти». И если когда раздаётся жалоба, то плачет она о краткой жизни Ахилла, о подобной древесным листьям смене преходящих людских поколений, о том, что миновали времена героев. И для величайшего героя не ниже его достоинства стремиться продолжать жизнь, хотя бы и в качестве подёнщика. Так неистово стремится «воля» на аполлонической ступени к этому бытию, так сильно в гомеровском человеке чувство единства с ним, что даже обращается в хвалебную песнь ему. Здесь необходимо сказать, что вся эта, с таким вожделением и тоской созерцаемая новым человеком, гармония, это единство человека с природой, для обозначения которого Шиллер пустил в ход термин «наивное», — ни в коем случае не представляет простого, само собой понятного, как бы неизбежного состояния, с которым мы необходимо встречаемся на пороге каждой культуры, как с раем человечества: чему-либо подобному могла поверить лишь эпоха, желавшая видеть в Эмиле Руссо художника и думавшая, что нашла в Гомере такого выросшего на лоне природы художника — Эмиля. Там, где мы в искусстве встречаемся с «наивным», мы вынуждены признать высшее действие аполлонической культуры, которой всегда приходится разрушать царство титанов, поражать насмерть чудовищ и при посредстве могущественных фантасмагорий и радостных иллюзий одерживать победы над ужасающей глубиной миропонимания и болезненной склонностью к страданию. Но как редко достигается эта наивность, эта полная поглощённость красотой иллюзии! Как невыразимо возвышен поэтому Гомер, который, как отдельная личность, относится ко всей аполлонической народной культуре так же, как отдельный художник сновидения ко всем сновидческим способностям народа и природы вообще. Гомеровская «наивность» может быть понята лишь как совершенная победа аполлонической иллюзии: это — та иллюзия, которой так часто пользуется природа для достижения своих целей. Действительная цель прячется за образом химеры: мы простираем руки к этой последней, а природа своим обманом достигает первой. В греках хотела «воля» узреть самоё себя, в преображении гения и в мире искусства; для своего самопрославления её создания должны были сознавать себя достойными такой славы, они должны были узреть и узнать себя в некоей высшей сфере, но так, чтобы этот совершенный мир их созерцаний не мог стать для них императивом или укором. Таковой была сфера красоты, в которой они видели свои отражения — олимпийцев. Этим отражением красоты эллинская «воля» боролась с коррелятивным художественному таланту талантом страдания и мудрости страдания; и как памятник её победы стоит перед нами Гомер, наивный художник. Об этом наивном художнике мы можем получить некоторое поучение из аналогии сна. Если мы представим себе грезящего, как он среди иллюзии мира грёз, не нарушая их, обращается к себе с увещанием: «Ведь это сон; что ж, буду грезить дальше»; если мы отсюда можем заключить о глубокой внутренней радостности сновидения; если мы, с другой стороны, для возможности грезить с этой глубокой радостностью созерцания должны вполне забыть день с его ужасающей навязчивостью, то мы вправе истолковывать себе все эти явления, под руководством снотолкователя Аполлона, примерно следующим образом. Сколь ни несомненно то, что из двух половин жизни, бдения и сна, первая представляется нам без всякого сравнения более предпочтительной, важной, достопочтенной, жизнедостойной, даже единственно жизненной, я тем не менее решаюсь, при всей видимости парадокса, утверждать с точки зрения той таинственной основы нашей сущности, явление коей мы представляем, — прямо обратную оценку сновидения. Действительно, чем более я подмечаю в природе её всемогущие художественные инстинкты, а в них страстное стремление к иллюзии, к избавлению путём иллюзии, тем более чувствую я необходимость метафизического предположения, что Истинно-Сущее и Первоединое, как вечно страждущее и исполненное противоречий, нуждается вместе с тем для своего постоянного освобождения в восторженных видениях, в радостной иллюзии; каковую иллюзию мы, погружённые в него и составляющие часть его, необходимо воспринимаем как истинно не-сущее, т. е. как непрестанное становление во времени, пространстве и причинности, другими словами, как эмпирическую реальность. Итак, если мы отвлечёмся на мгновенье от нашей собственной «реальности», примем наше эмпирическое существование, как и бытие мира вообще, за возникающее в каждый данный момент представление Первоединого, то сновидение получит для нас теперь значение «иллюзии в иллюзии» и тем самым ещё более высокого удовлетворения исконной жажды иллюзии. По этой самой причине внутреннему ядру природы доставляет такую неописуемую радость наивный художник и наивное произведение искусства, которое также есть лишь «иллюзия в иллюзии». Рафаэль, сам один из этих бессмертных «наивных», изобразил нам в символической картине такое депотенцирование иллюзии в иллюзию, этот первопроцесс наивного художника, а вместе с тем и аполлонической культуры. В его Преображении мы видим на нижней половине в бесноватом отроке, отчаявшихся вожатых, беспомощно перепуганных учениках отражение вечного и изначального страдания, единой основы мира: иллюзия здесь отражение вечного противоречия — отца вещей. И вот из этой иллюзии подымается, как дыхание амброзии, новый, видению подобный, иллюзорный мир, невидимый тем, кто внизу охвачены первой иллюзией, — сияющее парение в чистейшем блаженстве и безболезненном созерцании, сверкающем в широко открытых очах. Здесь перед нашими взорами в высшей символике искусства распростёрт аполлонический мир красоты и его подпочва, страшная мудрость Силена, и мы интуицией понимаем их взаимную необходимость. Аполлон же опять выступает перед нами как обоготворение principii individuationis, в котором только и находит своё свершение вечно достигаемая задача Первоединого — его избавление через иллюзию: возвышенным жестом он указует нам на необходимость всего этого мира мук, дабы под давлением его каждая отдельная личность стремилась к созданию спасительного видения и затем, погружённая в созерцание его, спокойно держалась бы средь моря на своём шатком челне. Это обоготворение индивидуации, если вообще представлять себе его императивным и дающим предписания, знает лишь один закон — индивида, т. е. сохранение границ индивида, меру в эллинском смысле. Аполлон, как этическое божество, требует от своих меры и, дабы иметь возможность соблюдать таковую, самопознания. И таким образом, рядом с эстетической необходимостью красоты стоят требования «Познай самого себя» и «Сторонись чрезмерного!». Самопревозношение и чрезмерность рассматривались как враждебные демоны не-аполлонической сферы по существу, а посему и как свойства до-аполлонического времени, века титанов, и вне-аполлонического мира, т, е. мира варваров. За свою титаническую любовь к человеку Прометей подлежал отдаче на растерзание коршунам; чрезмерность мудрости, разрешившей загадку сфинкса, должна была повергнуть Эдипа в затянувший его водоворот злодеяний; так истолковывал дельфийский бог греческое прошлое. «Титаническим» и «варварским» представлялось аполлоническому греку и действие дионисического начала, хотя он не скрывал от себя при этом и своего внутреннего родства с теми поверженными титанами и героями. Мало того, он должен был ощущать ещё и то, что всё его существование, при всей красоте и умеренности, покоится на скрытой подпочве страдания и познания, открывавшейся ему вновь через посредство этого дионисического начала. И вот же — Аполлон не мог жить без Диониса! «Титаническое» и «варварское» начала оказались в конце концов такой же необходимостью, как и аполлоническое! И представим себе теперь, как в этот, построенный на иллюзии и самоограничении и искусственно ограждённый плотинами, мир — вдруг врываются экстатические звуки дионисического торжества с его всё более и более манящими волшебными напевами, как в этих последних изливается вся чрезмерность природы в радости, страдании и познании, доходя до пронзительного крика; подумаем только, какое значение мог иметь в сравнении с этими демоническими народными песнями художник-псалмопевец Аполлона и призрачные звуки его лиры! Музы искусств «иллюзии» поблекли перед искусством, которое в своём опьянении вещало истину; мудрость Силена взывала: горе! горе! — радостным олимпийцам! Индивид со всеми его границами и мерами тонул здесь в самозабвении дионисических состояний и забывал аполлонические законоположения. Чрезмерность оказывалась истиной; противоречие, в муках рождённое блаженство говорило о себе из самого сердца природы. И таким образом везде, куда ни проникало дионисическое начало, аполлоническое упразднялось и уничтожалось. Но столь же несомненно и то, что там, где первый натиск бывал отбит, престиж и величие дельфийского бога выступали непреклоннее и строже, чем когда-либо. Я именно и могу только объяснить себе дорическое государство и дорическое искусство как постоянный воинский стан аполлонического начала: лишь в непрерывном противодействии титанически-варварской сущности дионисического начала могли столь долго продержаться такое упорно-неподатливое, со всех сторон ограждённое и укреплённое искусство, такое воинское и суровое воспитание, такая жестокая и беспощадная государственность. До сих пор я детально излагал то, что было мною замечено в самом начале этого рассуждения, а именно: как дионисическое и аполлоническое начала во всё новых и новых последовательных порождениях, взаимно побуждая друг друга, властвовали над эллинством; как из «бронзового» века с его битвами титанов и его суровой народной философией под властью аполлонического стремления к красоте развился гомеровский мир; как это «наивное» великолепие вновь было поглощено ворвавшимся потоком дионисизма и как в противовес этой новой власти поднялся аполлонизм, замкнувшись в непоколебимом величии дорического искусства и миропонимания. Если таким образом древнейшая эллинская история в борьбе указанных двух враждебных принципов распадается на четыре большие ступени искусства, то теперь мы испытываем побуждение к дальнейшим вопросам о конечном плане всего этого становления и всей этой деятельности, если только мы не станем считать последний по времени период дорического искусства за вершину и цель этих художественных стремлений, и здесь нашему взору открывается величественное и достославное художественное создание аттической трагедии и драматического дифирамба как совместная цель обоих инстинктов, таинственный брак которых, после долгой предварительной борьбы, возвеличен был рождением первенца, соединившего в себе Антигону и Кассандру. Фрагмент №15 megaobuchalka.ru Ницше. 1844-1900 Отказывается заменять реальные потребности
жертвоприношением непонятно умозрительной истине. Он называл это «разрушить
иллюзию задних миров». Нет ничего кроме данного нам мира. И пренебрегать тем,
что есть здесь и сейчас ради того, что нельзя потрогать – главный грех. Ницше типаж поэта-пророка, который разыгрывает
свою жизнь по законам искусства. Книги – побочный продукт его
жизнедеятельности. Eго философия очень органичная 1888 – EsseHomo автобиографическое
произведение. Кратко проходится по предшествующим текстам. Для понимания
философии, говорит он, для возникновения литературы и философии основную роль играет
климат, здоровое питание, выбор правильного способа отдыха. Утверждает, что мир
иррационален. С его физическими немощами было сложно
реализовать в своей жизни сверхчеловека. Всегда автобиографично. Фиксирует результаты
своего опыта. Говорит, что самые ясные книги у него рождались во время
ужаснейших головных болей. Он отвлекался от боли своими книгами. Его
вдохновляло то, что то, что он пишет, взорвёт мораль. Главное произведение. 72г – первая ст.Рождение трагедии из духа
музыки. (стиль и форма ещё в рамке, но идея уже новая, много цитирует Шопенгауэра.
Но уже отказывается от попытки рационально постичь иррациональное. Пытается
зародить миф. Вводит 2 богов – Дионис и … .) 81 – утренняя заря. Поворотная книга.
Прощается с общепринятыми нормами морали. 82 – весёлая наука. 83-86гг - так говорил Заратустра. 86 – по ту сторону добра и зла 87 – генеалогия морали 88 –сумерки богов, антихрист, EsseHomo польско-немецкая кровь. Изучал философию и
филологии. Ему присудили степень доктора без защиты, за его публикации по
филологии. Всё было зашибись, не предвещало беды. Его считали идолом молодого
филологического факультета. 76г – состояние ухудшилось. Дала ему возможность
выстроить путь к себе самому. Не смотря на состояние тела, по состоянии духа он
был абсолютно здоров и противостоял этой тенденции декаданса кт продвигало его
тело. отказался от преподавания. И он искал всю оставшуюся жизнь себе
комфортные условия жизни. Он стал интересоваться медициной и биологией потому
что болел. Поэтому же его философия такая жизненная. Его фил называют «фил
жизни». Всё что помогает выжить здоровому сильному телу – добро. Обратное –
зло. Внимание к телесному. Он сам пишет, что такой подход у него благодаря болезни.
Ведёт жизнь странника. Из болезни делает философию. Он всегда выздоравливал
поэтому он хорошо изучил путь от декаданса к возрождению. Подвижность и легкость
в этом перемещении – это ницше называет душевным здоровьем. - Концепция культуры как противостояния
аполонической и дионисийской культур - «Так говорил Заратустра» 1888г. = дата вынесения ему диагноза
сумасшествия В конце жизни он заигрался. Начинает писать
странные письма. Подписывался «Ницше Цезарь», «Распятый» - он менял маски.
Очень любил Диониса. Ницше — адепт критики богоцентрищма, адепт
всемогущества разума. Идея ницше – новая ступень в развитии
европейской цивилизации Ницше критикует эпоху просвещения, так как
разум исчерпывает свои силы. Древние мифы воспринимались как некий набор
сюжетов. Для ницше античность – предтеча современной
европы. Утрата пластичности религии – вина Христа. Античность уже не может питать современность.
Ницше предлагает обратиться к новому мифу о боге Дионисии. Миф может спасти разлагающуюся Европу от
полной гибели. Музыка Вагнера наиболее близка к дионисийскому
началу. Но потом Ницше очень разочаровался в Вагнере, так как Вагнер затем
снова пришел к Христианству + обратил свое искусство на возрождение немецкого
национализма, а Ницше немцев ненавидел. Немецкое романтики жили в ожидании рождения
нового мифа. Пытались придать поэзии изначальное значение, то есть поэзия —
новая мифология => восстановление нравственности и целостности народа.
Искусство по их мнению должно было прийти на смену религии. «Мир может быть оправдан только как
эстетический феномен» — открывается статья «Рождение Трагедии из духа музыки». Он
предлагает в статье вернуться к этому миру, от которого христианство веками
отворачивало человека, предлагая прекрасный потусторонний мирю Ницше предлагает
принять этот мир со всеми его ужасами, вспомнить о мужестве. Ницше строит концепцию мироздания на
противопоставлении двух начал дионисия и аполлона. Дионис изгнан с Олимпа. Он путешествует в
отдаленных пространствах. Ему ещё предстоит вернуться на олимп, освободиться от
безумия => он грядущий Бог. Для ницше основания того, что этот бог поможет
воскрешению Европы. Упадок говорит только о восхождении на верх, о возрождении.
Дионис должен научить человека не бояться хаоса. Так как из хаоса возникает
гармония. Личность, которая отказывается от общепринятых
норм открывает перед собой хаос => старается воспринимать мир как некий акт … 1873гю — «Рождение трагедии из духа музыки».
Эта книга сделала ницше имя. Но и обрушила на него огонь критики. «Нет
прекрасной поверхности без ужасной глубины» - Ницше. Зеркальный мир персея — элемент аполонской?? Культуры,
элемент приручения, одомашнивания хаоса. Христианство по мнению Ницше —необузданная
попытка введения моральных норма во все сферы существования. «Любая жизнь —
ложь» — Ницше. Христианство пропагандирует отвращение к миру,
страх перед жизнью, стремление к потустороннему миру. Жизнь неморальна, к ней
не нужно стремиться. Заратустра, Дионисий. Антихрист. Мир аполлона — мир человеческого искусства,
который спасает от ужасов мир. Человек в мир аполлона одинок. Только в состоянии дионисийского опьянения, в
толпе человек может найти защиту от враждебной действительности, научиться
воспринимать её. В индивидуализации личности лежит исток трагедии. Музыка — выражение чистой эмоции. Она не
подчиняется логическому толкованию Музыка — первейшее искусство, далее лирика,
пластика и эпос — уже рассудочное создание образов. Первоначально трагедия это хор сатиров, поющих
дифирамбы Дионису. Сатир имеет дуальную природу (низменное и возвышенное). Первоначально зрители драмы это хор сатиров,
которые пытаются свои эмоции и опыт рассказать. Дионис является во множественности образов, но
по сути это рассказ об одном и том же. 1881-83гг. — «Так говорил Заратустра» Эта книга имела большое значение и для самого
автора. Заратустра — образ человека, встал на путь
приобщения к дионисийской культуре. Он пытается слиться с Дионисом и тем самым
стать Богом. У ницше в З. прописан путь слияния с Дионисом:
«Отказаться от мира аполлона — западное — враг, цивилизация рождена в результате
победы Аполлона над Дионисом в природе человека. Нужно стать ребенком, чтобы
открыть новый мир, начать новую игру. Но Заратустра в 40 лет, после 10 лет
пребывания в горах возвращается в мир людей, затем снова уходит и возвращается,
уходит снова => весь мир живет в ожидании 3-его пришествия Заратустры. Заратустра не есть ещё Дионис. Он — пророк
грядущего бога Диониса. В нём столько же человеческого, сколько и
нечеловеческого. Идея вечного возвращения Ницше. Постоянное
возвращение к акту творения. Вечное возвращение означает то, что человек хочет
этого возвращения. Это возвращение избирательное «Живи так, что бы тебе «захотелось
снова» прожить свою жизнь». Авторизованы были 3 части, третья часть кончается
дифирамбом вечности, античностью. Четвертая часть была издана, когда ницше был
в лечебнице, то есть без его воли, она была пессимистична. Заратустра – своего рода библия ницше. Структура:
роман миф Автобиография Образы: Орел (высота) и змея (символ мудрости,
вечности) сопровождают Заратустру. Дикая мудрость. Осел, или верблюд — вьючные животные. Лев — зверь, сбрасывающий с себя бремя Дракон. Лев сражающийся с драконом и
побеждает его. Образ ребенка, освобожденного философа. Образ карлика — тяжести пессимизма. Мир высот (горы) — мир долины. Пустыня — уход для самопознания. Время циклично. Смена времен года соотносится
с состоянием героя. Структура напоминает структуру эпоса. Когда есть
возможность дополнять произведение новыми главами. zarubka2009.narod.ru Дата: 06.02.2014 в 17:42 Рубрика : Книги Метки : 1990, античность, Аполлон, Вячеслав Иванов, Дионис, Древняя Греция, комедия, консервативная революция, Ницше, сверхчеловек, трагедия, цикличность Комментарии : нет комментариев Фридрих Ницше. Рождение трагедии из духа музыки // Ницше. Сочинения в двух томах. Т. 1. М., Мысль, 1990 Меня трудно назвать поклонником, любителем или ценителем Ницше. Причем это предопределилось уже лет в 16. Я совершенно не интересовался всевозможными «Заратустрами» в мягкой обложке, валявшимися в книжных и всем таким прочим и соблазнился только фундаментальным двухтомником с предисловием Свасьяна — прежде всего потому что там было «Рождение Трагедии». Миф о борьбе Аполлонического и Дионисийского начал породившей трагедию, о рационализме Сократа разрушившем трагическое — все это было для моего увлечения античностью очень любопытно. Отрыв от плоского рационализма в изучении античности произведенный Ницше породил почти все интересное что мы знаем о древних архаичных религиях и мистике сегодня Элиаде, Лосев, Юнг даже Дюмезиль все они вышли как из Шинели из ницшевской «Трагедии». Не говорю уж о непосредственных продолжениях таких как «Дионис и прадионисийство» Вячеслава Иванова. За мифом было признано самостоятельное бытие. Самое смешное при этом то, что как раз в анализе афинской трагедии Ницше ухитрился ошибиться на все 100. Ницше с восторгом открыл у греков иррациональное и глубочайший пессимизм в противоположность скучной филистерской Европе. Но поскольку в эпоху Ницше еще почти ничего не знали о древнем Востоке, он определил этот эллинский пессимизм как уникальное А дело было как раз наоборот: пессимизм был банальностью, общим местом всего востока, обладающий умом человек видел что не может бороться против стихии зла, боги жестоки, жизнь бессмысленна, лучше не родиться. И как раз греки первые отступили от пессимизма. Благодаря своему жизненному опыту греки поняли что со стихией можно бороться, что року можно противостоять. «Дионис» был уделом всего Востока. «Аполлон» (а точнее Афина) — стал богом Запада. Причем не с Сократа а гораздо раньше. Ницше как-то непонятно читал своего любимого Эсхила — тот на самом деле жуткий оптимист и верит не в судьбу а в борьбу: «Дерзай бремя принять проклятья». Эсхил, кстати, очень веселый, шутливый автор, он может считаться родоночальником не только трагедии, но и комедии. А вот «рационалист» Еврипид, так ругаемый Ницше, напротив верит в иррациональность, в судьбу, в Рок, а его «Вакханки» это настоящий гимн Древнему Ужасу, непобедимому Дионису. Так что отчасти своя своих не познаша. Об этом расхождении с греками у Ницше я написал эссе «Рождение комедии из духа трагедии». Когда в 2006 Борис Межуев — тогда главред АПН затеял дискуссию о Ницше я написал об этом эссе. Поскольку коллеги восприняли задание как поручение восславить Ницше, моего ироничного, а порой и с издевкой текста они, кажется, не оценили. Между тем в ней заключен один из самых важных для меня тезисов, принципиально разделяющих меня с постницшеанским «традиционализмом». Циклического «человека упадка» нельзя преодолеть дождавшись конца цикла и перескочив в новый. Перескочить из космического цикла в космический цикл вообще невозможно (хотя бы потому, что их не существует). Тем более, нельзя произвести космическую революцию, синтезировав из обломков и объедков человека железного века некоего «сверхчеловека». Сверхчеловек — это Сверхтруп недоучки Франкенштейна. Единственный выход из упадка — это космический взрыв Спасения, взрыв благодати, событие превосхождения профанного бытия, когда двери открываются не снизу, а сверху. В чем же было откровение Ницше и в чем же состояло его мыслепреступление? Его откровение было очень простым, — под классическим ratio античности Ницше увидел Миф. Сегодня это может показаться странным, но до того момента ученейшие филологи античнейшей европейской страны Германии мифа не видели в упор. Точнее он оставался для них версификациями дологического разума, применять к которым даже занудный логический аппарат Шеллинга, уже было излишней тратой времени. И вдруг базельский профессор Ницше не просто «понимает», а чувствует и видит миф. Даже если бы он увидел лишь Аполлона, но не того, который гуляет по античным отделам музеев с лирой, а то, кто из своего лука мечет чумные стрелы, Ницше стоял бы на десять голов выше современников-филологов. Но он увидел и постиг Диониса — то сокровенно темное и страшное, что таит в себе не только античность, но и любая архаика, любая жизнь в пространстве Мифа. Ницше увидел и пережил Миф не обезображенный [облагороженный — тут уж по выбору каждого] формой. Увидев Миф через античную Трагедию, Ницше обретает определенную перспективу, которая совершенно умопомрачительна для европейского квазихристианина и либерала XIX века. Он не видит линии времени, он видит цикл. Он не видит эволюции как прогресса, он видит время как упадок, преодолеваемый только порывом трагического героя. Этот порыв направлен не на созидание или утверждение, но на гибель. Чем сильнее «гюбрис» героя (а именно на античную «гюбрис» без остатка разлагается ницшеанская воля к власти — знай это политики-ницшеанцы, — они бы разбили все статуи своего философского идола), чем мощнее его порыв к смерти, тем большая слава его ожидает. Трагический герой перестает уже быть словом мифа, становясь мелодией первой архаической песни. Это новообретенное трагическое мирочувствие заставляет Ницше прежде всего порвать с главным принципом, главным идолом и главным божеством современного ему мировоззрения — Историей. В Истории воспитательнице, учительнице, наставнице жизни, заставляющей саму жизнь огустевать и отвердевать, опредмечиваться и «отчуждаться», Ницше видит главную угрозу трагическому мировоззрению. Чтобы понять всю резкость протеста Ницше против истории, следует учесть, что он смотрит на нее с позиции человека постигшего Вечное Возвращение и круговращение «эонов». Исторический горизонт для него — это горизонт одного эона, в котором накопление знания, обретение исторической ясности попросту бессмысленны, коль скоро наука будет сокрушена вместе со всем составом мира. Отсюда и два средства от истории, два «яда», которые предлагает Ницше, — «неисторическое и надисторическое»: «Словом «неисторическое» я обозначаю искусство и способность забывать и замыкаться внутри известного ограниченного горизонта; «надисторическим» я называю силы, которые отвлекают наше внимание от процесса становления, сосредоточивая его на том, что сообщает бытию характер вечного и неизменного». Можно по примеру архаического человека, жить до истории, в сиюминутном ограниченном становлении, не видящем в пестром поле времени никаких различимых фигур, либо, по примеру архаического сверхчеловека жить над историей, прорвавшись к вечности, за предел суетливой пестроты явлений. Остановиться на истории, заинтересоваться ею, для Ницше так же нелепо, как нелепо было бы для узника Платоновой пещеры, обратившись от теней к подлинным предметам остановиться на них, а не продолжить свой путь к Солнцу. Ницше ненавидит историю со всей яростью приверженца «Вечного возвращения». А с историей он вынужден ненавидеть и Религию Истории — Христианство. Причем отнюдь не только Христианство виттенбергских пропойц и женевских сухарей, а саму сущность, душу Христианства как религии Спасения, совершаемого в единой и единственной Истории. Напротив, Ницшево понимание «нигилизма» как отвердения и загустения ценностей, их превращения в предмет не генеалогии и даже не археологии, а ихтиологии морали, напрямую зависимо от протестантского учения об «омертвении» и «деградации» Христианства по мере истории. Антиисторизмом Ницше куда больше обязан Лютеру, нежели Эсхилу и Дионису. А самому отцу Протестантизма, если судить по совести, должно было быть отведено почетное место в плеяде «сверхлюдей», прорывающих паутину нигилизма. Он мог бы считаться одним из «антихристов», прорывающих и переворачивающих мир «после Христа». Ницше очень хорошо знает Лютера, охотно его цитирует и то, что он его не ценит — дань показному нонконформизму да личному отвращению сына лютеранского пастора. Самообман лютеранина Ницше даже больше, чем он мог себе вообразить. В своем постижении Мифа и увлечении Трагедией Ницше так и остается «фаустовским человеком». Даже отрицая историю, он не может проникнуться идеей Вечного Возвращения сколько-нибудь буквально. Рассуждая об античном пессимизме он так и не отрекается от европейского оптимизма. Грек в своем пессимизме пессимистичен последовательно, как и его далекий единомышленник индус. Мир деградирует к упадку и разрушению. Этот упадок абсолютен и не несет тем, кому суждено среди него родиться и жить, кроме страдания. Все, что может сделать истинный философ — это попытаться как можно скорее эмигрировать из этого мира к абсолюту — без всякой трагедии, без какого-либо надрыва — просто и эффективно выключиться из этого мира. Все, что может сделать религиозный дурак, — попробовать сделать метафизическую карьеру, достичь «лучшего» перерождения и добиться полного исчезновения причины собственного бытия, до стирания «кармы», вовлекающей его в жизненные циклы. Все, что может сделать простец, — немного продлить себя за пределы собственного существования при помощи славы, — подвигом, деянием, той самой трагедией превратиться из простой мелодии в слово — слово мифа. Кажущаяся Ницше высшим метафизическим разрядом духа, трагедия, как и эпос, есть, на деле, утешение простеца. В космосе, где нет никакой вечной жизни, ни подлинной трансценденции, ни единого шанса для человека, все что остается — это стать героем и, если дух смел, — остаться в слове, в «истории» (если кто помнит греческое значение слова, ничем не отделяющее историю от эпоса и мифа). Человек трагического мировоззрения Ницше просто бы не понял — как в его антиисторизме, коль скоро стать героем рассказа, героем трагедии, и есть смысл героического деяния, так и в его оптимизме. Ницше, как и положено новоевропейцу, — исторический оптимист. Он не верит в «экспиросис» как тотальное самоуничтожение мира и всего, что в нем. Он, каким-то парадоксальным образом, верит в немыслимую для грека возможность перескочить из цикла в цикл, замкнув один эон, начать новый. Именно здесь тайна ницшевского «сверхчеловека». Этот парадоксальный фантом человеческого разума — не просто вознесшийся над толпой человек, но и не божество. По сути, — это первопредок нового «эона», это обитатель «времени сновидений», устанавливающий новый молодой прамир, удивительный метафизический «серфингист», переплывающий из «века» в «век». Как такое может быть — не спрашивайте. Грек не скажет вам этого, поскольку для него «сверхчеловек» — исполин, гигант, титан, есть не будущее, но прошлое человека. Ницшеанец не скажет вам, поскольку, в отличие от Ницше, он никакого трагического начала в душе не несет, чаще всего он просто хочет быть «круче всех». Благо, начав свой эволюционный ряд с обезьяны, Ницше предоставил ницшеанцу полную возможность считать, что сверхчеловек — это тот, кто имеет больше самок, может убить больше соперников, съесть больше пищи и испытывает оргазм дольше на пять секунд. Впрочем, можно так и не считать, а быть, вместо этого, «консервативным революционером». Но эта интерпретация, равновелика с той, как, впрочем, и с интерпретацией наипозднейшего Ницше, считавшего себя цыпленком. Консервативная революция в её основах есть плод филологически-философской ошибки Ницше , не понявшего, как уже было отмечено, всей глубины и необратимости эллинского пессимизма. Ошибка эта основана на странной, практически безумной надежде повернуть колесо «четырех юг» вспять и каким-то образом восстановить высшее мифологическое мирочувствие не только для себя лично в пределах итальянской виллы или швейцарской психлечебницы, но для общества в целом. Для того чтобы имело смысл говорить о консервативной революции, «путь героя» из личной попытки прорваться в «другой эон» должен стать неким общественно-значимым действием. Либо по массовому возвращению героического начала в жизнь и быт, либо по столь же массовому учреждению «нового эона», то есть стать либо радикальной реакцией — отбрасывающей нас к изначальному мифу, либо столь же радикальной революцией, — делающей нас мифоздателями нового века веков. В любом случае консервативный революционер должен не только подхватить, но и усугубить ошибку Ницше, внесшего историческое начало в самое сердце мифологического антиисторизма. Должен выбрать пространством своего действия не миф, но историю, и сам должен стать не музыкой, но эпическим словом. Более того, последовательный консервативный революционер должен стать очень хорошим лютеранином. То есть принять на веру — во-первых, то, что изначальная традиция была прекрасна, во-вторых, что со временем она потускнела, и, наконец, в-третьих, что нынешним порывом возможно к ней вернуться и ее возродить, если, в-четвертых, опираться на достаточно авторитетные источники, которые можно принимать согласно принципам sola scriptura. Другими словами, необходимо принять историцизм , то есть уверенность в своей способности творить историю, без историзма , то есть без признания своей принадлежности истории и умения её понимать. Реальные исторические опыты осуществить «консервативную революцию» на европейском человеческом материале или, хотя бы, в нее сыграть, заканчивались неизменным конечным торжеством истории над мифом. История охотно принимала в свое пространство тех, кто пытался сыграть в нее по своим правилам, но играла исключительно по своим собственным. Скорый подъем и гибель нацизма продемонстрировали всю изощренность смысловой ловушки, расставленной Ницше своим последователям. Попытка утвердить миф в пространстве истории закончилась торжеством истории, причем при помощи самого мифа. Нет, наверное, ни одного бойкого журналиста, который не увидел бы в закате Третьего Рейха Gotterdammerung, то есть вполне закономерный финал трагедии и мифологической истории. И ведь в самом деле, странно было бы, обратившись к Вотану, встретить в конце пути гурий или Небесный Иерусалим, а не Фафнира. Не миф закольцовывает собой историю, в соответствии с верой Ницше и его последователей, а, напротив, — история закольцовывает собой миф, а уж что станет с самой историей — сгорит ли она в огне возвращения или увенчается в трансцендентном инобытии — вопрос метафизики, а не мифологии. Но мифологический «традиционализм» в любом случае обречен и ущербен, если идет на столкновение с Историей. Он может лишь уйти от нее, но тогда в нем не останется ничего революционного, либо подчиниться ей, но тогда в нем не будет ничего консервативного. Отдельно доставляет, также, бытовое ницшеанство, некий интеллигентский «культ силы», мощи, власти и т.д. «Ницшеанцам» в этом смысле я всегда напоминаю, что в любимой многими цитате «собираясь к женщине не забудь плетку» подразумевается, что плетку будет использовать женщина. Цитата: Какова же была та огромная потребность, из которой возникло столь блистательное собрание олимпийских существ? Тот, кто подходит к этим олимпийцам с другой религией в сердце и думает найти у них нравственную высоту, даже святость, бестелесное одухотворение, исполненные милосердия взоры, — тот неизбежно и скоро с недовольством и разочарованием отвернётся от них. Здесь ничто не напоминает об аскезе, духовности и долге; здесь всё говорит нам лишь о роскошном, даже торжествующем существовании, в котором всё наличное обожествляется, безотносительно к тому — добро оно или зло. И зритель, глубоко поражённый, остановится перед этим фантастическим преизбытком жизни и спросит себя: с каким же волшебным напитком в теле прожили, наслаждаясь жизнью, эти заносчивые люди, что им, куда они ни глянут, отовсюду улыбается облик Елены, как «в сладкой чувственности парящий» идеальный образ их собственного существования. Этому готовому уже отвернуться и отойти зрителю должны мы крикнуть, однако: «Не уходи, а послушай сначала, что народная мудрость греков вещает об этой самой жизни, которая здесь раскинулась перед тобой в такой необъяснимой ясности. Ходит стародавнее предание, что царь Мидас долгое время гонялся по лесам за мудрым Силеном, спутником Диониса, и не мог изловить его. Когда тот наконец попал к нему в руки, царь спросил, что для человека наилучшее и наипредпочтительнейшее. Упорно и недвижно молчал демон; наконец, принуждаемый царём, он с раскатистым хохотом разразился такими словами: «Злополучный однодневный род, дети случая и нужды, зачем вынуждаешь ты меня сказать тебе то, чего полезнее было бы тебе не слышать? Наилучшее для тебя вполне недостижимо: не родиться, не быть вовсе, быть ничем. А второе по достоинству для тебя — скоро умереть».Как относится к этой народной мудрости олимпийский мир богов? Как исполненное восторгов видение истязуемого мученика к его пытке. Теперь перед нами как бы расступается олимпийская волшебная гора и показывает нам свои корни. Грек знал и ощущал страхи и ужасы существования: чтобы иметь вообще возможность жить, он вынужден был заслонить себя от них блестящим порождением грёз — олимпийцами. Необычайное недоверие к титаническим силам природы, безжалостно царящая над всем познанным Мойра, коршун великого друга людей — Прометея, ужасающая судьба мудрого Эдипа, проклятие, тяготевшее над родом Атридов и принудившее Ореста к матереубийству, короче — вся эта философия лесного бога, со всеми её мифическими примерами, от которой погибли меланхолические этруски, — непрестанно всё снова и снова преодолевалась греками при посредстве того художественного междумирия олимпийцев или во всяком случае прикрывалась им и скрывалась от взоров. Чтобы иметь возможность жить, греки должны были, по глубочайшей необходимости, создать этих богов; это событие мы должны представлять себе приблизительно так: из первобытного титанического порядка богов ужаса через посредство указанного аполлонического инстинкта красоты путём медленных переходов развился олимпийский порядок богов радости; так розы пробиваются из тернистой чащи кустов. Как мог бы иначе такой болезненно чувствительный, такой неистовый в своих желаниях, такой из ряда вон склонный к страданию народ вынести существование, если бы оно не было представлено ему в его богах озарённым в столь ослепительном ореоле. Тот же инстинкт, который вызывает к жизни искусство, как дополнение и завершение бытия, соблазняющее на дальнейшую жизнь, — создал и олимпийский мир, как преображающее зеркало, поставленное перед собой эллинской «волей». Так боги оправдывают человеческую жизнь, сами живя этой жизнью, — единственная удовлетворительная теодицея! Существование под яркими солнечными лучами таких богов ощущается как нечто само по себе достойное стремления, и действительное страдание гомеровского человека связано с уходом от жизни, прежде всего со скорым уходом; так что теперь можно было бы сказать об этом человеке обратное изречению силеновской мудрости: «Наихудшее для него — скоро умереть, второе по тяжести — быть вообще подверженным смерти». И если когда раздаётся жалоба, то плачет она о краткой жизни Ахилла, о подобной древесным листьям смене преходящих людских поколений, о том, что миновали времена героев. И для величайшего героя не ниже его достоинства стремиться продолжать жизнь, хотя бы и в качестве подёнщика. Так неистово стремится «воля» на аполлонической ступени к этому бытию, так сильно в гомеровском человеке чувство единства с ним, что даже обращается в хвалебную песнь ему. Здесь необходимо сказать, что вся эта, с таким вожделением и тоской созерцаемая новым человеком, гармония, это единство человека с природой, для обозначения которого Шиллер пустил в ход термин «наивное», — ни в коем случае не представляет простого, само собой понятного, как бы неизбежного состояния, с которым мы необходимо встречаемся на пороге каждой культуры, как с раем человечества: чему-либо подобному могла поверить лишь эпоха, желавшая видеть в Эмиле Руссо художника и думавшая, что нашла в Гомере такого выросшего на лоне природы художника — Эмиля. Там, где мы в искусстве встречаемся с «наивным», мы вынуждены признать высшее действие аполлонической культуры, которой всегда приходится разрушать царство титанов, поражать насмерть чудовищ и при посредстве могущественных фантасмагорий и радостных иллюзий одерживать победы над ужасающей глубиной миропонимания и болезненной склонностью к страданию. Но как редко достигается эта наивность, эта полная поглощённость красотой иллюзии! Как невыразимо возвышен поэтому Гомер, который, как отдельная личность, относится ко всей аполлонической народной культуре так же, как отдельный художник сновидения ко всем сновидческим способностям народа и природы вообще. Гомеровская «наивность» может быть понята лишь как совершенная победа аполлонической иллюзии: это — та иллюзия, которой так часто пользуется природа для достижения своих целей. Действительная цель прячется за образом химеры: мы простираем руки к этой последней, а природа своим обманом достигает первой. В греках хотела «воля» узреть самоё себя, в преображении гения и в мире искусства; для своего самопрославления её создания должны были сознавать себя достойными такой славы, они должны были узреть и узнать себя в некоей высшей сфере, но так, чтобы этот совершенный мир их созерцаний не мог стать для них императивом или укором. Таковой была сфера красоты, в которой они видели свои отражения — олимпийцев. Этим отражением красоты эллинская «воля» боролась с коррелятивным художественному таланту талантом страдания и мудрости страдания; и как памятник её победы стоит перед нами Гомер, наивный художник. Метки: 1990, античность, Аполлон, Вячеслав Иванов, Дионис, Древняя Греция, комедия, консервативная революция, Ницше, сверхчеловек, трагедия, цикличность 100knig.com«Вчера был Дионис, а сегодня — мещанская посредственность»: лекция о «Рождении трагедии» Ницше. Анализ ницше рождение трагедии из духа музыки
лекция о «Рождении трагедии» Ницше — T&P
Преподаватель РГГУ, историк философии Дмитрий Хаустов прочитал серию лекций в Гуманитарном центре «Пунктум», посвященных Фридриху Ницше. В чем разница между дионисийским и аполлоническим началом в культуре, почему немецкий философ считал, что после Сократа начался упадок философии и искусства, и по какой причине Ницше разочаровался в Вагнере и Шопенгауэре — проект «Под взглядом теории» публикует расшифровку первой лекции из цикла — «Ницше и Древняя Греция».







Ф.Ницше Рождение трагедии из духа музыки — Мегаобучалка
4.2. Развитие Фридрихом Ницше идей А. Шопенгауэра в работе «Рождение трагедии из духа музыки». Деконструктивизм Ницше в трактате «Антихристианин/ «Антихрист».
100 книг | Фридрих Ницше. Рождение трагедии из духа музыки
 Добавить в избраное
Добавить в избраное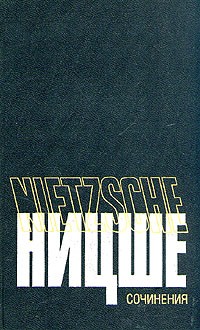
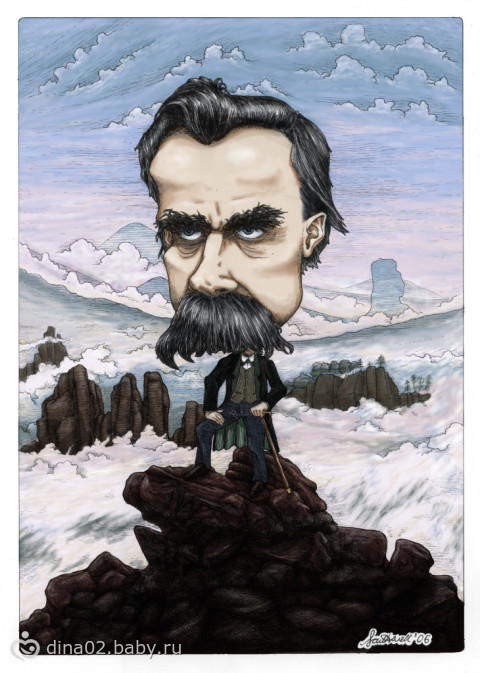 Что касается ницшеанства в целом и особенно его влияния на идеи «консервативной революции», то оно всегда вызывало у меня иронию. Консервативная Революция строится на абсолютно невозможном совмещении двух идей — вечного возвращения и сверхчеловека. Концепция вечного возвращения предполагает, что наш мир постепенно ухудшается, потом гибнет, потом возникает, и снова с начала. А идея сверхчеловека учит о существе которое станет больше чем человек, о титане среди карликов как некоем будущем. Предполагается, что сверхчеловек «отменяет» порчу мира – по крайней мере для себя. Что некое движение «снизу» может повернуть колесо судьбы. Как у людей совмещаются такой глубокий пессимизм и такой щенячий оптимизм мне всегда было непонятно. Если мир ухудшается — никто не может стать лучше. Если кто-то может стать больше это и есть прогресс и тогда никакого возвращения.
Что касается ницшеанства в целом и особенно его влияния на идеи «консервативной революции», то оно всегда вызывало у меня иронию. Консервативная Революция строится на абсолютно невозможном совмещении двух идей — вечного возвращения и сверхчеловека. Концепция вечного возвращения предполагает, что наш мир постепенно ухудшается, потом гибнет, потом возникает, и снова с начала. А идея сверхчеловека учит о существе которое станет больше чем человек, о титане среди карликов как некоем будущем. Предполагается, что сверхчеловек «отменяет» порчу мира – по крайней мере для себя. Что некое движение «снизу» может повернуть колесо судьбы. Как у людей совмещаются такой глубокий пессимизм и такой щенячий оптимизм мне всегда было непонятно. Если мир ухудшается — никто не может стать лучше. Если кто-то может стать больше это и есть прогресс и тогда никакого возвращения.
